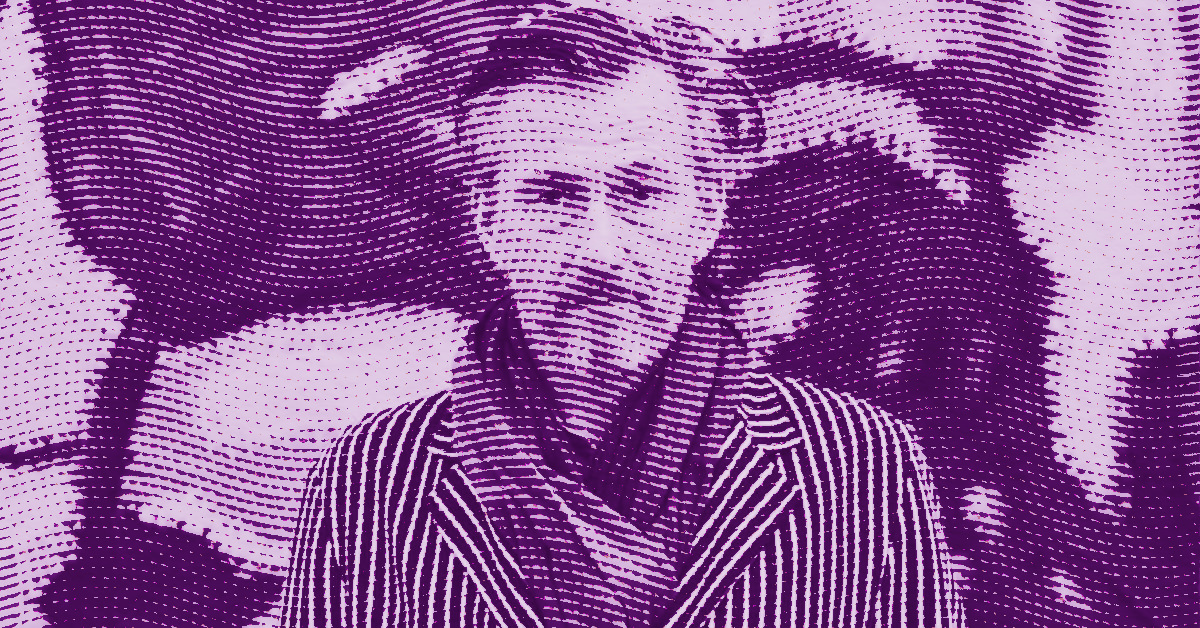Слушайте меня внимательно, кучка снобов. Когда Гюнтер Дамиш утверждал, что его живописная система руководствуется идеей трансформации и метаморфозы, он не произносил пустых слов для выставочных каталогов. Этот человек, ушедший слишком рано в 2016 году в возрасте пятидесяти восьми лет, понял нечто важное о самой природе современного искусства: что живопись может быть одновременно массажем нервных клеток и картографией невидимого.
Дамиш принадлежал к поколению австрийских Новых Диких, которое в начале 1980-х годов ломало устоявшиеся каноны вместе с Отто Цитко и Хубертом Шейблом. Но в отличие от своих современников он быстро развил свой особый путь, исследователя пограничных территорий между наукой и чувствительностью, между макрокосмом и микрокосмом. Его полотна, населённые существами с развёрнутыми щупальцами, растущими кристаллическими формами и галактическими энергетическими концентрациями, показывают художника, который уловил суть нашей эпохи: постоянное напряжение между бесконечно малым и бесконечно большим, характеризующее наше современное отношение к миру.
Архитектурный танец пространства
Творчество Дамиша ведёт постоянный диалог с архитектурой, не с той архитектурой, что в зданиях и памятниках, а с невидимыми структурами, которые организуют наше восприятие. Его миры, поля, сети и его “Flämmer”, довольно газообразные существа, служащие связующими между разными мирами его композиций,, представляют собой истинную пространственную грамматику, архитектурный словарь интимного и космического. Когда он создавал свои фигуры, бросающие вызов гравитации, без конечностей и казалось бы плавающие в движущейся системе, Дамиш дирижировал пространственной хореографией, напоминающей самые смелые исследования современной архитектуры.
Этот архитектурный подход особенно проявляется в его понимании живописного пространства как территории для обитания, а не для созерцания. Его полотна, не окна, открывающие иной мир, а иммерсивные среды, где взгляд зрителя становится кочевником, постоянно исследующим новые территории. Как напоминала Андреа Шуриан, Дамиш был “создателем миров”, который открывал двумерное пространство холста в бесконечность через свои цветовые серии переплетений, выцветания и царапины.
Архитектор Тадао Андо говорит о важности пустоты в пространственном творчестве [1]. У Дамиша эта пустота становится позитивной, порождённой формами и движениями. Его безграничные живописные пространства, структурированные взаимодействием большого и малого, создают архитектуру опыта, а не архитектуру объекта. Извилистые линии, вписанные в его космосы, раскрывают пространственное восприятие, где архитектура становится потоком, движением и постоянным преобразованием.
Это архитектурное видение выходит далеко за пределы простой композиционной организации. Оно влечёт за собой размышления о человеческом жилище в постоянно меняющемся мире. “Внутренние пространства” его бронзовых скульптур, эти укромные места, населённые крошечными существами, предлагают альтернативу доминирующей функционалистской архитектуре.
Его деликатные ретикуллярные башни, больше натурального размера, представляют собой настоящие архитектурные предложения. Они намекают на обитаемые структуры, где граница между внутренним и внешним стирается, где архитектура становится проницаемой мембраной между человеком и его окружением. Это видение предвосхищает современные исследования в области биомиметической архитектуры и адаптивных структур.
Влияние архитектуры на его графическую работу также заслуживает внимания. Его ризоматические структуры, лавовые потоки цвета, ритмичные змееобразные линии представляют собой настоящую символическую морфологию, доступную всем. Эти графические записи функционируют как архитектурные планы невидимого, топографические съемки умственных пространств, в которых каждый может проецировать свой собственный пространственный опыт.
Творческая меланхолия и алхимия форм
Творчество Дамиша также ведёт диалог с глубокой литературной традицией, исследующей тайные соответствия между состояниями души и формами мира. Его “переплетения” и “закрутки” неотразимо вызывают ассоциации с вселенной В.Г. Себальда, писателя, который умел превращать меланхолию в творческую силу. Как и у автора “Кольца Сатурна”, созерцание природных форм становится у Дамиша отправной точкой размышлений о времени, памяти и трансформации.
Эта меланхолическая составляющая не выражает пессимизма, а особую ясность в отношении циклов разрушения и регенерации, управляющих живым. Когда Дамиш наблюдал “червей и змей, петли и лианы, ручьи и извилистые реки, прибрежные линии и берега, ручейки и червоточины, следы разгрызания насекомыми коры и эрозии водой”, он практиковал особую активную меланхолию, которую Себальд называл “естественной наукой разрушения”.
Его поэтические названия свидетельствуют об этой особой литературной чувствительности. “Weltwegköpflerdurcheinander”, “Köpflerflämmler am Wetlbogen”, “Köpflersteher Weltaffäre”, это выражения, похожие на составные немецкие слова, но полностью вымышленные художником и намеренно абсурдные. Эти неологизмы раскрывают художника, который думал как поэт, для которого именование форм было частью их самого создания. Этот лингвистический подход к живописи напоминает исследования Пауля Целана по соответствиям между изображением и языком.
Меланхолия Дамиша превращает натуралистическое наблюдение в космическое видение. Его одноклеточные существа с распущенными щупальцами, их кристаллические образования, галактические энергетические концентрации свидетельствуют о его способности видеть в микроскопическом законы, управляющие всей вселенной. Это меланхолическое и одновременно научное видение напоминает “Избирательные аффинитеты” Гёте, где наблюдение природных феноменов раскрывает тайные законы, управляющие человеческими страстями.
Переход от живописности к текстуальности в его работах 1990-х годов прекрасно иллюстрирует это литературное измерение. Дамиш создал живописный космос со своим собственным концептуальным словарём, где “Welten”, “Steher”, “Flämmler” и “Wege” становились персонажами личной мифологии. Это языковое творение, параллельное пластическому творчеству, свидетельствует о всеобъемлющем подходе к искусству, где живопись и литература взаимно питаются.
Его коллажи, включающие вырезки из газет и гравюры на дереве на живописной поверхности, которые затем покрывались краской, напоминают технику создания композиций послойно, близкую писателям. Как у Себальда, прошлое вскрывается под поверхностью настоящего, создавая эффект временной прозрачности, придающий произведениям меланхолическую глубину.
Эта творческая меланхолия находила своё наиболее совершенное выражение в его бронзовых скульптурах, которые Отто Брайха называл “колючими моделями для всего мира” [2]. Эти окаменевшие существа словно носят в себе геологическую память земли, свидетельствуя о литературной способности воспринимать в настоящем отпечатки долгого времени.
Преподавание как акт искусства
Преподаватель Академии изящных искусств Вены более двадцати лет, Дамиш произвёл революцию в педагогическом подходе к искусству. Его обучение не было направлено на создание “маленьких Дамишей”, а на раскрытие в каждом студенте “маленького растения искусства”, которое он видел в каждом. Этот педагогический подход сам по себе является произведением искусства, социальной скульптурой в понимании Йозефа Бойса.
Дамиш считал преподавание процессом взаимного преобразования. Речь шла не о передаче готовых знаний, а о создании условий для совместного открытия. Его студенты единодушно подтверждают его уникальную способность создавать атмосферу обучения, где “искусство может всё и ничего не должно”. Эта формула, которую он любил повторять, прекрасно резюмирует его педагогическую философию: предоставлять полную свободу в рамках самых высоких требований.
Этот подход берёт начало в его собственном образовании у Арнульфа Райнера и Макса Мельхера, а также в опыте музыканта панк-группы “Molto Brutto”. Дамиш понял, что художественное обучение требует не столько овладения техниками, сколько способности развивать личный язык. Его метод заключался в поддержке каждого студента на пути поиска подлинности, не навязывая собственную эстетику.
Свидетельства его бывших студентов показывают учителя, умеющего адаптировать свой подход под каждую личность. Одним нужны были поощрения, другим, более жёсткие вызовы. Дамиш владел искусством дифференцированной педагогики, умея когда “утешить”, а когда дать “пинок под зад”, по выражению одного из его студентов.
Его институциональная активность также отражает это расширенное понимание искусства. Будучи председателем комиссии, членом сената, руководителем института, Дамиш рассматривал эти административные роли не как бремя, а как естественное продолжение своей художественной деятельности. Речь шла о создании институциональных условий для процветания искусства.
Живое наследие
Почти десять лет спустя после его ухода, творчество Гюнтера Дамиша продолжает сиять далеко за пределами специализированных кругов. Его исследования соответствий между макро- и микрокосмом находят особый отклик в наших современных заботах, связанных с экологией и науками о жизни. Его “колючие модели для всего мира” предлагают ключи к пониманию нашего отношения к природе в эпоху Антропоцена.
Влияние его преподавания измеряется разнообразием путей его бывших студентов, ныне активных в самых разных художественных областях. Это творческое рассеяние свидетельствует о точности его педагогического метода: формировать художников, способных развивать собственный язык, а не подражателей.
Его пластические исследования трансформации и метаморфозы также предвосхищают современные вопросы об искусственном интеллекте и биотехнологиях. Исследуя пограничные территории между органическим и неорганическим, между естественным и искусственным, Дамиш открыл пути, которые современное искусство лишь начинает исследовать.
Универсальность его пластического языка объясняет растущее международное признание. Его выставки в Китае, Исландии, Чехии свидетельствуют об этой способности говорить на визуальном языке, превосходящем культурные границы. Его “газообразные существа” и “соединители между мирами” предлагают визуальные метафоры для размышления о глобализации и межкультурных обменах.
Дамиш оставил нам произведение, которое функционирует как “сеть, заброшенная в океан сознания”. В эпоху, когда современное искусство иногда кажется потерянным в чистой концептуализации или зрелищности, его пример напоминает, что живопись всё ещё может предложить незаменимые сенсорные переживания. Его полотна продолжают приглашать к той “танцующей восприятии самого себя как воспринимающего”, к которой он стремился.
Истинное искусство переживает своего создателя, продолжая создавать смысл. Творчество Гюнтера Дамиша полностью соответствует этому критерию. Оно предлагает нам визуальные и концептуальные инструменты для понимания сложности современного мира, этого постоянного напряжения между локальным и глобальным, между индивидуальным и коллективным, между человеческим и нечеловеческим, характеризующего нашу эпоху.
- Тадао Андо, “Архитектура пустоты”, Éditions du Moniteur, 2000.
- Отто Брайха, цитируется в “Gunter Damisch. Weltwegschlingen”, Хоэнемс/Вена, 2009.