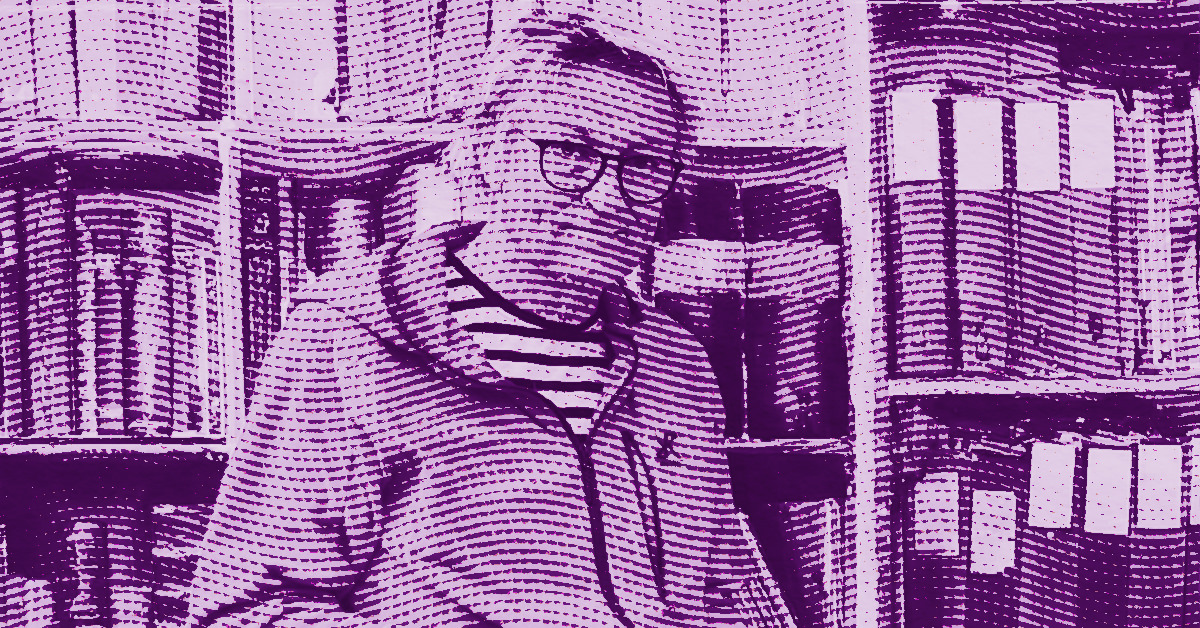Слушайте меня внимательно, кучка снобов: если вы всё ещё считаете, что акварель, это просто воскресное увлечение для ностальгирующих пенсионеров, значит, вы никогда не созерцали 450 сантиметров управляемого хаоса Ларса Лерина. Этот швед, родившийся в лесах Мункфорса в 1954 году, не рисует воду, он вылепливает время, сказал бы Тарковский. И эта метафора не случайна.
В скандинавской художественной среде Ларс Лерин занимает уникальное положение, не сговариваясь с поспешными классификациями. Обучался в школе Герлесборг, затем в Высшей школе искусств Валланд в Гётеборге в период с 1980 по 1984 годы, он утвердился как один из самых влиятельных акварелистов своего поколения, значительно выходя за северные пределы и затрагивая европейскую и американскую души. Его постоянный музей Sandgrund в Карлстаде, открытый в 2012 году, свидетельствует об институциональном признании, но истинный масштаб его гения раскрывается при непосредственном контакте с его монументальными произведениями.
Ведь Лерин проводит тихую революцию в искусстве акварели. Там, где ожидается буржуазная деликатность, он навязывает поэтическую жестокость. Его форматы, часто превышающие 3 метра, превращают традиционную интимность медиума в погружение. “Я рисую то, что вижу, а не то, что знаю”,, заявляет он [1], тревожное эхо заветов Тернера, которые он, кажется, переосмысливает для нашего разочарованного времени.
Временность Тарковского или искусство вылепливания мгновения
В произведениях Ларса Лерина есть временное качество, которое немедленно вызывает ассоциации с кинематографическим миром Андрея Тарковского. Эта родство не случайна: она раскрывает общий подход к искусству как метафизическому исследованию человеческого бытия перед величием природы.
Тарковский в своей работе Запечатленное время теоретизировал кино как искусство чистого времени, в отличие от монтажа Эйзенштейна благодаря способности захватывать реальную длительность. Акварели Лерина следуют схожему подходу: они не изображают застывший момент, а несут в себе память процесса создания, эту “технику мокрое по мокрому” [2], позволяющую воде и пигменту взаимодействовать по собственным физическим законам.
Эта особая временность проявляется в его сериях о Лофотенах, норвежском архипелаге, где он провел двенадцать решающих лет. Его видения Хеннингсвера или Мотивы Лофотен не запечатлевают туристическую красоту пейзажей, а их экзистенциальную меланхолию. Как у Тарковского, тьма, это не отсутствие света, а раскрытие более глубокой истины. В Фьорде (2015) чайки низко летают над тёмной водой, в то время как несколько зданий плотно прижимаются к берегу, “под покровом навязчивой тьмы” [3]. Рукописный текст, пронизывающий произведение, создаёт эффект отстранения, который Тарковский использовал, чтобы удержать зрителя в состоянии созерцательного вопроса.
Влияние Тарковского также проявляется в обращении с архитектурой. Изолированные дома Лерина, эти “караваны, припаркованные рядом с домом” или эти “гаражи в Лофотенах” напоминают разрушенные здания российского мастера, которые всегда находятся на грани того, чтобы быть вновь захваченными природой. Эта архитектурная уязвимость выражает “экзистенциальное состояние в окружении, окутанном тьмой арктической зимы” [3], центральную тему фильмографии Тарковского, где человек вечно ищет смысл перед лицом космической бесконечности.
Но, возможно, именно в своем отношении к памяти Лерин наиболее тесно сближается с Тарковским. Его произведения работают через накопление визуальных и текстовых воспоминаний, создавая эти “моментальные снимки памяти, захватывающие впечатления жизни и тепла, которые, возможно, уже не существуют” [4]. Эта ностальгия не является самоцелью: она становится инструментом познания, средством доступа к поэтической истине, превосходящей простое натуралистическое изображение.
Лерин практикует то, что можно назвать “археологией мгновения”. Его путевые записки превращаются в визуальные медитации, где внешняя география раскрывает внутренние пейзажи. Это двойное пространственное и временное исследование раскрывается в его больших композициях, где “различные черные, охра и французский ультрамарин” [5] создают хроматические симфонии редкой изысканности. Художник не стремится воспроизвести, а раскрыть, работая “на пинг-понгном столе” [5] с этими гигантскими форматами, превращающими мастерскую в лабораторию временных экспериментов.
Зловещая непривычность знакомого
Произведение Ларса Лерина обретает особую глубину в том, что Зигмунд Фрейд называет das Unheimliche, тревожным странным ощущением. Эта психоаналитическая концепция, разработанная в 1919 году, обозначает беспокоящее чувство, которое возникает, когда привычное внезапно раскрывает свою скрытую, тайную, потенциально угрожающую сторону.
У Лерина это тревожное странное ощущение проявляется на нескольких уровнях. Во-первых, в его обращении с предметами повседневной жизни: его натюрморты из “фарфора и стекла” превращают бытовые предметы в загадочные присутствия. Стулья, которые он пишет, становятся “портретами” по мнению кураторши Беры Нордал, раскрывая “личностные и взаимоотношенческие характеристики в стиле, износе, расстоянии между стульями и их направленном расположении” [6]. Эти пустые сиденья несут призрачный отпечаток своих отсутствующих обитателей, создавая напряжение между присутствием и отсутствием, характерное для фрейдовского unheimlich.
Еще более тревожным является его работа над диорамами Естественноисторического музея Гётеборга, которые раскрывают саму суть тревожного странного ощущения. Эти “чучела животных”, которые он изображает “внутри витрины” с “фоном за фотографом, отраженным в стекле” [6], создают мир с множественными онтологическими слоями. Что мы видим? Натурализованное животное? Его живописное изображение? Отражение живого мира в витрине? Эта головокружительная стратификация напрямую напоминает фрейдовский анализ автоматов и восковых фигур, объектов, размывающих границу между одушевленным и неодушевленным.
Тревожное странное ощущение Ларса Лерина наиболее ярко выражается в его обитаемых архитектурах. Его изолированные дома в шведской или норвежской сельской местности никогда не бывают просто живописными: они несут в себе глухую угрозу, угрозу заброшенности, исчезновения. Эти строения, “уязвимые перед всегда присутствующими стихиями”, напоминают то, что Фрейд определяет как возвращение подавленного, здесь, фундаментальную хрупкость нашего пребывания в мире.
Рукописный текст, пересекающий его композиции, добавляет дополнительное измерение к этой тревожной странности. Эти фрагменты текста, часто нечитаемые, функционируют как вмешательства бессознательного в репрезентативный порядок. Они создают эту “другую измерение, ассоциацию с журналом, письмами” [7], которую заявляет художник, но одновременно порождают когнитивное напряжение у зрителя, сталкивающегося с сообщением, которое он не может полностью расшифровать.
Эстетика неопределённости достигает своего апогея в работах, где Лерин смешивает ментальную фотографию и чистое творчество. Работая “от прямых отпечатков к более сложным произведениям”, где он останавливается и “начинает заново спустя некоторое время для более свежего взгляда” [7], он устанавливает временность промежутка, который дестабилизирует наши перцептивные ориентиры. Его пейзажи, ни полностью память, ни полностью наблюдение: они занимают промежуточное пространство, которое Фрейд определяет как привилегированную территорию унахайлика.
Алхимия эфемерного
Техника Лерина раскрывает парадоксальное мастерство: контролировать неконтролируемое. Этот подход “влажное по влажному”, где художник “распыляет всю бумагу и использует свои пигменты интуитивно в виде лессировок цвета в первые минуты, чтобы достичь этой атмосферной качества” [8], устанавливает постоянный диалог с творческим случаем. Это принятие неожиданного вписывается в эстетическую традицию, которая ведет от Тернера к абстрактным экспрессионистам, но Лерин добавляет сюда свою особую северную чувствительность.
Его отношение к цвету свидетельствует о поиске равновесия между контролем и отпусканием. Предпочитая “различные черные, охру и французский ультрамарин” [5], он строит свои гармонии на основе земли и теней, а не на блеске. Эта преднамеренно ограниченная палитра порождает эмоциональную интенсивность тем сильнее, что экономит свои эффекты. Его серые, “глубокие и темные, или эфирные и блестящие, будто магически освещающие изображение изнутри” [9], показывают глубокое понимание выразительных возможностей монохромии.
Эта хроматическая экономия служит более широкой эстетической цели: раскрыть необыкновенное в обыденном. Лерин не рисует виды открыток, а “экзистенциальные условия”, те моменты, когда человек сталкивается с фундаментальным одиночеством. Его Ночные гуляки идут “к нам, по колено в глубоком снегу вдоль улицы, где сияет северное сияние на небе сверху” [3], но вся эта красота остается “за спиной ночного гуляки, он ее не видит и не ценит. Он заперт в себе самом в холоде”.
Эта меланхолия у Лерина никогда не бывает самодовольной. Она проистекает из художественной ясности, которая принимает свою катарсическую функцию. Как он сам объясняет: “Рисовать и работать с изображениями (и словами), мой способ справляться с жизнью, своего рода ежедневная медитация, рутина” [7]. Искусство становится таким образом инструментом психического выживания, средством превращения экзистенциальной тревоги в созерцательную красоту.
Это преобразование происходит, среди прочего, через гигантизм форматов. Его работы в размере “206 x 461 сантиметров” не стремятся к эффекту зрелищности, а к полной погруженности. Они создают визуальную среду, которая окружает зрителя, заставляя его пройти физический, столь же как эстетический опыт. Это воплощенное измерение эстетического восприятия напоминает, что искусство Лерина обращено не только к интеллекту, но и к общей чувствительности человека.
Поэтика отсутствия
В сердце эстетики Ларса Лерина звучит фундаментальный вопрос об отсутствии и утрате. Эта озабоченность пронизывает все его творчество, начиная с первых исследований в Вермланде и до недавних возвращений в архипелаг Лофотен, задокументированных шведским телевидением в 2016 году.
Отсутствие проявляется прежде всего в его безлюдной архитектуре. Эти дома, гаражи, рыбные склады никогда не заселены в момент изображения. Они несут следы присутствия человека, износ, патину и обустройство, но остаются по сути пустыми. Эта пустота не нейтральна: она ставит под вопрос наши отношения к месту, укоренению, к постоянству человеческих вещей перед лицом природной безразличия.
Отсутствие становится особенно острым в его изображениях бытовых предметов. Его пустые стулья функционируют как портреты в отрицании, вызывая своей композицией человеческие отношения, которые их сформировали. Эта способность заставить молчаливое говорить раскрывает редкую поэтичную чувствительность, способную уловить человеческое в самых тонких следах.
Но, возможно, именно в обработке временности Лерин развивает свою самую изощренную поэтику отсутствия. Его ландшафты никогда не захватывают настоящий момент, а всегда прошедшее или приостановленное время. Эта призрачная временность выражается в самой его технике: акварель фиксирует испарение воды, превращая процесс исчезновения в эстетическое событие.
Эта эстетика эфемерности находит свое завершение в его самых недавних работах, где художник исследует “дальние страны, а также уголок улицы в Вермланде” [10]. Эта расширенная география не растворяет его поэтику, а универсализирует ее: повсюду человек сталкивается с одними и теми же экзистенциальными вопросами, одними и теми же тревогами перед временем, которое уходит, и перед уверениями, которые осыпаются.
Творчество Ларса Лерина представляет собой непрерывную медитацию над современной человеческой сущностью. В мире, все более урбанизированном и дематериализированном, он сохраняет живую чувственную и духовную связь с природой и временем. Его акварели функционируют как оазисы созерцания в ускоренном потоке нашей эпохи, напоминая, что искусство сохраняет уникальную способность замедлять время и углублять наши отношения с реальностью.
Эта способность коснуться универсального через частное объясняет значительный успех Лерина в Скандинавии и за ее пределами. Его выставки привлекают толпы, которые находят в его пейзажах забытые или подавленные части себя. Ведь помимо своей бесспорной технической виртуозности, Лерин обладает редким даром раскрывать меланхоличную красоту мира, красоту, рождающуюся именно из осознания его хрупкости.
Перед его великими композициями зритель испытывает то, что можно назвать “северным возвышенным”, смесь эстетического возвышения и метафизической тревоги, характерной для скандинавской чувствительности. Эта эстетика двойственности, где красота и беспокойство неразрывно переплетаются, ставит Ларса Лерина среди самых аутентичных художников нашего времени, тех, кто отказывается от легких утешений, чтобы напрямую столкнуться с конечными вопросами человеческого бытия.
Его влияние теперь распространяется далеко за пределы узкого круга любителей акварели. Признанный Королевской академией изящных искусств Стокгольма, лауреат премии August 2014 за книгу Naturlära, телевизионная личность года 2016 в Швеции, Лерин олицетворяет редкий образ популярного художника без эстетических компромиссов. Его способность одновременно обращаться к культурной элите и широкой публике свидетельствует об аутентичности его художественного подхода.
Однако этот успех не должен затмевать радикальность его эстетического проекта. Переосмысливая северную акварель, Лерин предлагает альтернативу доминирующему в наше время концептуальному искусству. Он отстаивает возвращение к сенсорным истокам творчества, к этой “ежедневной медитации” [7], которая превращает мастерскую в экзистенциальную лабораторию не менее, чем эстетическую.
Эта уникальная позиция в современном художественном ландшафте позволяет ему исследовать эмоциональные территории, которые часто игнорируются официальным искусством. Его произведения говорят о одиночестве без жалости к себе, о меланхолии без снисходительности, о тревоге без отчаяния. Они раскрывают эту “экзистенциальную ностальгию, общую для всех нас” [4], которую наша техническая цивилизация стремится подавить или медицински объяснить.
Искусство Ларса Лерина напоминает нам, что первоочередная функция искусства, исследование человеческого состояния в его самых фундаментальных измерениях. Перед лицом ускорения современного мира его акварели предлагают альтернативное время, время активного созерцания и молчаливого признания нашей общей уязвимости перед безграничностью мира.
Этот урок эстетической мудрости ставит Ларса Лерина среди ключевых творцов нашего времени, тех, кто сохраняет живой гуманистическую традицию европейского искусства, адаптируя её к современным чувствам. Его творчество служит мостом между древними заботами северного человека и универсальными вопросами нашей поздней современности, давая каждому возможность на время созерцания обрести ту часть вечности, которую хранит любое подлинное искусство.
- Константин Стерхов, “Lars Lerin Interview”, Art of Watercolor, 2012
- Ханна Август-Штор, “The Watercolor Worlds of Lars Lerin”, American Swedish Institute, Minneapolis, 2016
- Galleri Lofoten, “A new approach to Lofoten, Lars Lerin”, 2025
- Бера Нордал, Nordic Water Colour Museum, “Техника акварели, мощный инструмент”, 2011
- Константин Стерхов, “Lars Lerin Museum Interview”, Art of Watercolor, 2013
- Сьюзан Кэнвей, “Lars Lerin at American Swedish Institute”, Art As I See It Blog, 2016
- Константин Стерхов, “Lars Lerin Interview”, Art of Watercolor, 2012
- Ханна Август-Штор, “The Watercolor Worlds of Lars Lerin”, American Swedish Institute, Minneapolis, 2016
- Galleri Lofoten, “Описание выставки Lars Lerin”, Gallery Lofoten, 2025
- Суне Норгрэн, “As Fast as The Eye”, Королевская академия изящных искусств, Стокгольм, 2025