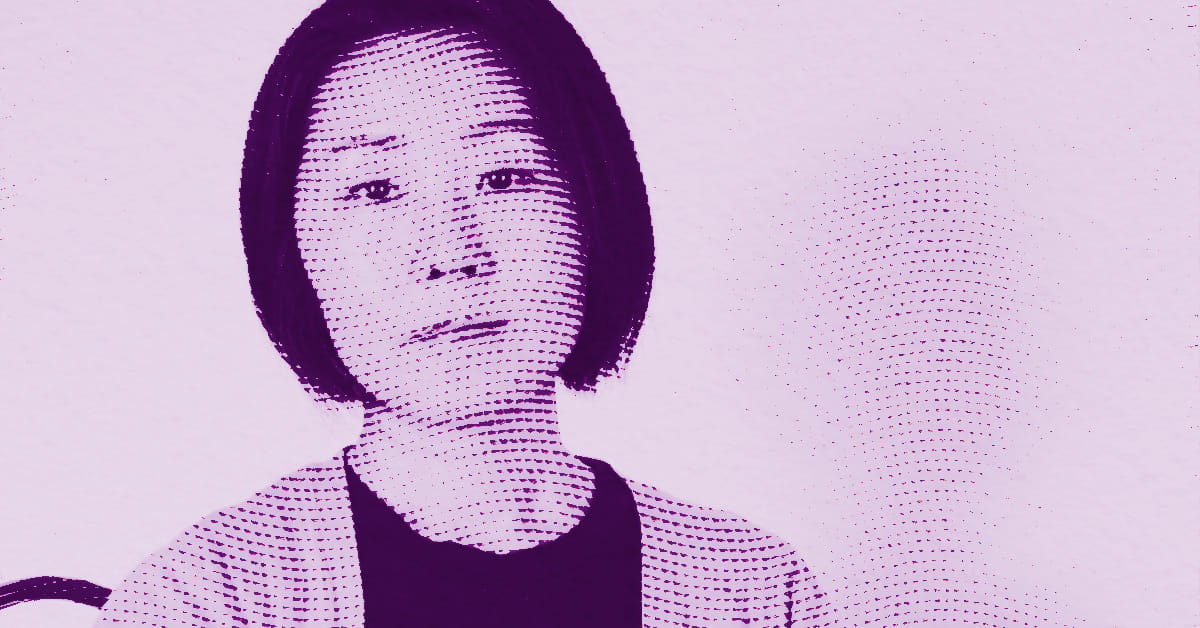Слушайте меня внимательно, кучка снобов, я должна обратить ваше внимание на замечательное творчество Наоко Сэкине, японской художницы, чья работа бросает вызов устоявшимся конвенциям современного искусства с неоспоримой изысканностью и интеллектуальной глубиной, и которая вместе с двумя другими лауреатами получила престижную премию Luxembourg Art Prize в 2023 году, международное художественное признание.
Сэкине, виртуоз парадокса, играющая между имманентностью и трансцендентностью с легкостью, заставляющей завидовать ваших любимых концептуальных художников. Её произведения, эти мерцающие структуры, где пересекаются физические и воображаемые линии,, это не просто объекты для созерцания, а механизмы, заставляющие нас переосмыслить наше отношение к пространству и времени.
Возьмём “Mirror Drawing-Straight Lines and Nostalgia” (2022), эту монументальную композицию почти три на три метра. Произведение вызывает в воображении городские пейзажи Нью-Йорка, увиденные сквозь призму Мондриана, но Сэкине идёт гораздо дальше. Девять отдельных панелей разного размера, составляющих целое, создают физические линии, которые становятся неотъемлемой частью композиции. Полируя графитовую поверхность так, словно драгоценный камень, она превращает непрозрачный материал в отражающую поверхность, приглашая зрителя и окружающее пространство сливаться с произведением.
Этот подход странным образом напоминает мне размышления Мориса Бланшо о литературном пространстве, где писатель исчезает за своим произведением, уступая место чистому опыту языка. В Литературном пространстве (1955) Бланшо писал: “Произведение привлекает того, кто посвящает себя ему, к точке, где оно испытывается невозможностью” [1]. Эту точку невозможности Сэкине воплощает в своих зеркальных поверхностях, создавая порог, где изображение и реальность сливаются, а зритель одновременно оказывается внутри и снаружи, словно подвешенный в головокружительном промежутке.
Когда Бланшо говорил о “существенном одиночестве произведения”, он указывал на эту способность искусства создавать автономное пространство, которое, парадоксальным образом, оживает только во встрече с зрителем. Произведения Сэкине прекрасно воплощают это напряжение: их отражающие поверхности поглощают и трансформируют окружение, делая каждый опыт уникальным и случайным. Это искусство, которое отказывается от фиксированности и заявляет о постоянном движении восприятия.
В “Stacks Ⅱ” (2023) Сэкине играет с нашим восприятием пространства, сопоставляя два типа линий: те, что физически созданы сборкой панелей, и те, что нарисованы вручную. Этот диалог между материальным и представленным напоминает размышления Бланшо о различии между обычным языком, который стирает слова в пользу их смысла, и литературным языком, который выявляет слова в их материальности.
Что мне нравится в Сэкине, так это её способ включать серендипность в творческий процесс. Когда она говорит о “случайностях”, которые возникают во время создания и которые она включала в произведение, чувствуется художница, которая ведёт диалог с материалом, а не навязывает ему предвзятую концепцию. Этот подход неотвратимо напоминает принципы японского ваби-саби, эстетики, ценящей несовершенство и непостоянство.
Вдохновение, которое Сэкине черпает в пещерах доисторической Франции, которые она посетила в 2013 году, особенно показательно. Эти анонимные художники 30 000 лет назад уже использовали естественные выпуклости стен для дополнения своих изображений животных, создавая слияние природы и человеческого вмешательства. Сэкине продолжает эту тысячелетнюю традицию, включая физическую природу своих носителей в финальную композицию. Искусство перестаёт быть просто изображением, наложенным на нейтральную основу, а становится сотрудничеством с материальностью самого мира.
Перейдём теперь к серии “Colors”, в которой Сэкине извлекает хроматические палитры из произведений таких как “Единороги” Гюстава Моро или “Модель на плетёном стуле” (“Model by The Wicker Chair”) Эдварда Мунка, создавая поразительно сложные пуантилистские композиции. Что меня здесь интересует, так это не столько отсылка к этим художникам, сколько музыкальная структура, лежащая в основе этих произведений.
Ведь это вторая концепция, которая освещает творчество Сэкине: современная минималистичная музыкальность. В своих трудах японская художница явно ссылается на композицию “Music for 18 Musicians” американского композитора Стива Райха как на фундаментальный источник вдохновения для своей художественной практики. Это знаковое произведение минималистской музыки, созданное в 1976 году, имеет особую структуру, где восемнадцать инструменталистов и вокалистов коллективно создают сложную звуковую ткань без дирижера. Такой композиционный подход резонирует с художественной практикой Сэкине благодаря некратерной концепции целого: каждый музыкальный элемент (или визуальный в случае Сэкине) сохраняет свою автономию, внося вклад в общую целостность произведения.
Композитор Джон Кейдж, говоря о музыке Райха, заметил: “Это не начало-середина-конец, а скорее процесс, процесс, который раскрывается” [2]. Это описание вполне применимо и к произведениям Сэкине, особенно к её серии “Colors”, где каждая цветная точка, точно расположенная в системе координат, создаёт визуальный опыт, превосходящий сумму частей.
Сам Райх объяснял: “Музыка как постепенный процесс позволяет мне сосредоточиться на самом звуке” [3]. Аналогично Сэкине приглашает нас сосредоточиться на чистом визуальном восприятии, а не на представлении или послании. Её цветные точки создают оптические вибрации, напоминающие ритмические удары Райха, пульсацию, возникающую из повторения схожих, но слегка смещённых мотивов.
В “Colors-The Unicorns (383)” (2023) цветные точки образуют то, что Сэкине называет “круговой структурой”, где ни один элемент не доминирует над другими. Как и в музыке Райха, где инструменты входят и выходят из композиции без фиксированной иерархии, цвета Сэкине создают сеть взаимодействий, в которой зритель воспринимает движения, вибрации и оптические смешения, не существующие материально на поверхности. Произведение завершается в глазах и разуме зрителя, так же как музыка Райха оживает в слухе слушателя.
Эта идея круговой структуры, противопоставленная традиционной пирамидальной структуре изобразительного искусства, особенно интересна. Сэкине отвергает идею центрального мотива, которому подчинены все остальные элементы, предпочитая созвездие элементов, взаимодействующих на равных. Это подход, который отзывается в процессуальной минималистской музыке, где мотивы накладываются и постепенно трансформируются, создавая погружающий опыт, напоминающий природные циклы.
Великие минималистские композиторы часто заявляли, что не хотят подражать, а просто понимать процессы [4]. Это может быть девизом Сэкине, которая не стремится точно воспроизводить образы, а хочет понять и раскрыть перцептивные процессы, создающие наш опыт мира. Её “Mirror Drawings” буквально отражают окружение, в котором они экспонируются, превращая каждую выставку в уникальный и контекстуальный опыт.
А что сказать о её интересе к бунраку, традиционному японскому театру марионеток? И здесь мы снова видим это увлечение системами, в которых различные элементы (манипуляторы, повествователи, музыканты) сохраняют свою независимость, создавая при этом единое целое. Разделение между повествователем и марионеткой, между голосом и движением создаёт промежуточное пространство, куда может погрузиться воображение зрителя, точно так же, как в произведениях Сэкине, где физические и нарисованные линии создают концептуальный разрыв.
“Edge Structure” (2020) прекрасно иллюстрирует этот подход. В этом произведении Сэкине вырезает абстрактный рисунок по его контурам, затем извлекает квадрат изнутри и переставляет элементы для создания новой композиции. Процесс деконструкции и реконструкции напоминает способ, которым процессуальная музыка разбирает и заново собирает свои мотивы. Визуальная художница и композитор обе исследуют, как трансформация существующих структур может раскрыть новые восприятия.
Американская минималистская музыка славится “слышимой градацией” своих музыкальных процессов [5]. Эта прозрачность процесса проявляется и у Сэкине, которая не скрывает механизмы создания своих работ, а, наоборот, подчёркивает их. Соединения между панелями, следы полировки, последовательные слои материалов, всё видно, создавая материальную честность, которая напрямую вовлекает зрителя.
Что мне нравится в этих параллельных художественных подходах, так это их способность создавать работы, которые одновременно интеллектуально стимулируют и чувственно завораживают. Минималистская музыка, несмотря на свою концептуальную строгость, остаётся глубоко трогательной и физически ощущаемой. Аналогично, произведения Сэкине, несмотря на их теоретическую сложность, предлагают немедленный и вязкий визуальный опыт, эти зеркальные поверхности, улавливающие свет и трансформирующие пространство, создают почти тактильное ощущение.
“Square Square” (2023), с его смещёнными прямоугольниками и различными типами линий, создаёт то, что я бы назвал “визуальной полифонией”, где разные уровни восприятия накладываются друг на друга, но никогда полностью не сливаются. Эта стратификация напоминает технику “сдвига фаз”, характерную для минималистской музыки, где два идентичных мотива, играемых с немного разной скоростью, постепенно создают сложные ритмические конфигурации.
Я уже слышу ваши шёпоты: “Опять один из тех интеллектуальных художников, которые делают искусство для теоретиков”. Ошибаетесь. То, что спасает Сэкине от концептуальной сухости,, это её непоколебимая привязанность к чувственности материала. Эти поверхности, отполированные как зеркала, линии, меняющие внешний вид в зависимости от угла и света, точки цвета, вибрирующие на нашем сетчатке, всё это создаёт немедленный эстетический опыт, который превосходит интеллектуализацию.
Именно здесь заключается истинная оригинальность Наоко Сэкине: в её способности примирить казалось бы противоречивые подходы. Концептуальное и чувственное, плоскость и объём, неподвижное и подвижное, контролируемое и случайное сосуществуют в её работах, не отменяя друг друга. Как в современной минималистской музыке, где математическая строгость порождает парадоксальный медитативный, почти мистический опыт, произведения Сэкине используют геометрическую точность, чтобы открыть нам более текучее и интуитивное восприятие мира.
Если у искусства ещё есть роль в нашем мире, насыщенном изображениями, то именно эта: напоминать нам, что наше восприятие, это не просто пассивная запись реальности, а активное конструирование, где материальность и сознание неразрывно переплетаются. Произведения Сэкине, делая видимыми эти перцептивные механизмы, приглашают нас к новому диалогу с видимым миром, диалогу, в котором мы уже не просто зрители, а активные участники создания смысла.
В следующий раз, когда вы увидите произведение Наоко Сэкине, остановитесь на мгновение. Посмотрите, как свет играет на этих отполированных поверхностях, как ваше собственное отражение смешивается с линиями, проведёнными художницей, как цветные точки меняются в зависимости от вашего расстояния и угла взгляда. И, возможно, вы услышите в этом безмолвном диалоге между произведением и вашим восприятием отдалённые эхо тех музыкальных структур, которые так вдохновляли художницу, эти минималистские ритмические пульсации, которые, подобно нашим биениям сердца, отсчитывают время нашего существования.
- Морис Бланшо, Литературное пространство, Галлимар, 1955.
- Джон Кейдж, Тишина: лекции и письма, Wesleyan University Press, 1961.
- Стив Райх, Письма о музыке, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.
- Стив Райх, интервью с Джонатаном Коттом, Интервью в Rolling Stone, 1987.
- Стив Райх, Музыка как постепенный процесс в Писях о музыке, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.