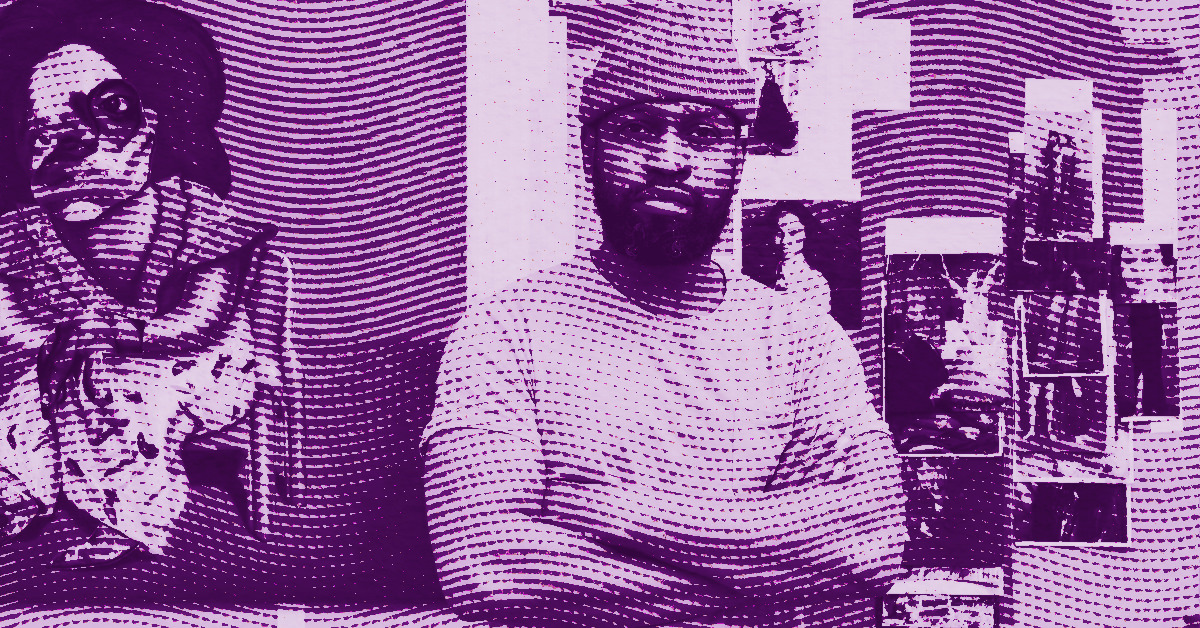Слушайте меня внимательно, кучка снобов: Натанья́ль Мэри Куинн, не просто художник, разрушающий лица, он архитектор человеческой души, возводящий свои соборы на руинах наших визуальных убеждений. На протяжении более десяти лет этот артист из Бруклина, родившийся в 1977 году в жилых проектах Роберт Тейлор в Чикаго, переворачивает наше представление о современном портрете с виртуозностью, которая одновременно сбивает с толку и завораживает. Его произведения, настоящие симфонии угля, масла и пастели, сталкивают нас с тревожной истиной: мы не те цельные существа, которыми себя считаем, а хрупкие сборки воспоминаний, травм и стремлений.
Творчество Куинна развивается на плодотворном напряжении между разрушением и восстановлением, между наследием синтетического кубизма и глубоко современным чувством. Его составные портреты, которые ошибочно можно принять за коллажи, полностью нарисованы вручную с использованием техники, которая скорее напоминает визуальную алхимию. Художник берет фрагменты из модных журналов, семейных фотографий и найденных в интернете изображений, чтобы воссоздать лица, которые кажутся возникающими из глубин коллективного бессознательного.
Эстетика фрагментации у Куинна не случайна, а связана с биографией, отмеченной оставлением и потерей. Когда Куинн, будучи пятнадцатилетним, обнаруживает пустую семейную квартиру после возвращения с праздника Благодарения, после смерти матери Мэри, он переживает мучительный опыт экзистенциальной разрыва. Этот основополагающий разрыв сегодня наполняет его искусство продуктивной меланхолией, превращая личную травму в универсальный живописный язык.
Архитектура памяти
Подход Куинна демонстрирует глубокие родственные связи с современными архитектурными заботами, особенно с теми, которые исследуют отношения между пространством, памятью и идентичностью. Как архитектор Питер Айзенман в своих деконструктивистских проектах, Куинн ставит под вопрос идею стабильной и единой структуры [1]. Его расщепленные лица напоминают фрагментированные пространства Айзенмана, где евклидова геометрия уступает место более сложной логике, логике временного наложения и множественности перспектив.
Эта архитектурная аналогия усиливается, когда рассматривается способ, которым Куинн буквально строит свои композиции. Художник действует через наслоение, каждый нарисованный фрагмент становится архитектурным элементом восстанавливаемой идентичности. Глаза, носы, рты и другие физиономические элементы функционируют как сборные модули, которые он собирает по логике, превосходящей простое фотографическое сходство. Этот модульный подход напоминает теории японского архитектора Кисё Курокавы о метаболизме архитектуры, где здания разрабатываются как развивающиеся организмы, способные включать новые элементы, не теряя своего единства.
Временность играет центральную роль в этой архитектуре памяти. Куин не изображает своих субъектов в определённый момент, а захватывает их в их временной глубине, в накоплении всех мгновений, которые их построили. Этот многослойный подход напоминает городские свидетельства, где читаются следы последовательных цивилизаций. Его портреты становятся таким образом археологическими памятниками идентичности, где каждый нарисованный фрагмент раскрывает другой слой существования субъекта.
Использование цвета также участвует в этой архитектурной логике. Куин применяет приглушённые тона, коричневые, охристые и выцветшие розовые, которые напоминают необработанные строительные материалы: бетон, обожжённую глину, окисленный металл. Эти хроматические выборы закрепляют его произведения в материальности, которая превосходит чистое изображение, достигая скульптурного измерения. Лица кажутся построенными, а не нарисованными, возведёнными камень за камнем как памятники человеческой сложности.
Эта архитектурная грань достигает апогея в произведениях большого формата, таких как “Apple of Her Eye” (2019), где мужское лицо разворачивается, подобно монументальному фасаду. Композиция играет с масштабами, некоторые увеличенные элементы создают невозможные перспективные эффекты, которые сбивают с толку зрителя. Эта манипуляция масштабом, характерная для современной архитектуры, превращает акт взгляда в пространственный иммерсивный опыт.
Влияние деконструктивистской архитектуры также проявляется в том, как Куин обрабатывает негативные пространства в своих композициях. Эти зоны, далеко не простые фоны, активно участвуют в построении смысла, создавая “дыхания”, которые позволяют нарисованным фрагментам резонировать друг с другом. Это внимание к пустоте напоминает заботы таких архитекторов, как Тадао Андо, для которого неконструированное пространство так же важно, как и сконструированное.
Серия “SCENES” (2022) продвигает эту архитектурную логику в новые территории, вводя отсылки к киноинфографике. Персонажи фильмов и телесериалов становятся обитателями этих психических архитектур, занимая живописное пространство как фигуры в декорациях. Этот театральный аспект усиливает аналогию с архитектурой, произведение становится местом представления, где разворачиваются драмы современной идентичности.
Опера психической внутренности
Если архитектура обеспечивает Куину его формальный словарь, то для понимания эмоционального измерения его творчества следует обратиться к лирическому искусству. Его портреты функционируют как визуальные арии, где каждый нарисованный фрагмент составляет ноту в сложной партитуре, посвящённой исследованию внутреннего мира человека. Этот оперный подход не является метафорой, а представляет собой настоящую структурную соответствие между музыкальным построением и живописной конструкцией.
Опера, как искусство синтеза, сочетает музыку, театр, поэзию и визуальные искусства, создавая тотальный опыт. Куин осуществляет подобный синтез, объединяя в своих портретах элементы из разнородных визуальных регистров: модная фотография, народные образы, семейные воспоминания, художественные отсылки. Эта постоянная гибридизация создаёт визуальную полифонию, напоминающую сложные хоры великих романтических опер.
Драматургия Вагнера находит особый отклик в произведениях Куинна. Как Вагнер выстраивал свои оперы вокруг музыкальных лейтмотивов, которые трансформируются и комбинируются на протяжении всего произведения, так и Куинн развивает повторяющиеся визуальные мотивы, полные губы, сдвинутые глаза и фрагментированные носы, которые составляют его эстетическую подпись. Эти элементы работают как живописные лейтмотивы, позволяющие воспринимать его творчество как единый цикл, посвящённый исследованию человеческого состояния.
Эмоциональная интенсивность опер Верди также пронизывает искусство Куинна. Его портреты запечатлевают своих героев в моменты максимального психологического напряжения, подобно персонажам Верди, захваченным на кульминации их арии. “That Moment with Mr. Laws” (2019) прекрасно иллюстрирует эту эстетику интенсивности: мужское лицо, с яркими цветами и блестящими ушибами, кажется застывшим в беззвучном крике, напоминающем великие драматические голоса итальянской оперы.
Вокальное измерение творчества находит своё пластическое выражение в экспрессионистской обработке ртов. Куинн уделяет особое внимание этому элементу лица, часто преувеличенному и окрашенному в ярко-красные цвета, напоминающие внутреннюю плоть горла. Эти рты не просто намекают на речь: они воплощают голос в его физической материальности, превращая портрет в визуальную партитуру, где звучит эхо неслышимых песен.
Влияние барочной оперы с её риторикой аффекта проявляется в эмоциональной кодировке выражений. Каждый портрет, кажется, соответствует определённому страстному состоянию: меланхолия, гнев, экстаз, отчаяние. Этот систематический подход к эмоциям напоминает доктрину аффектов, которую придерживались барочные композиторы, стремясь вызывать у слушателя конкретные психологические состояния с помощью технически отточенных средств.
Опéрное восприятие времени также структурирует восприятие произведений Куинна. Его портреты не раскрываются мгновенно, а требуют времени созерцания, сравнимого с прослушиванием оперной арии. Взгляд зрителя движется по композиции в ритме, заданном художником, постепенно открывая детали, обогащающие понимание целого. Это протяжённое восприятие превращает акт созерцания в почти музыкальный опыт.
Недавние работы, вдохновленные романом Элис Уокер “The Third Life of Grange Copeland”, усиливают повествовательное измерение, характерное для оперы. Куинн больше не ограничивается изображением отдельных лиц, он развивает настоящие живописные циклы, рассказывающие истории, исследующие судьбы, раскрывающие психологические изменения. Этот сериальный подход напоминает тетралогии Вагнера или трилогии Пуччини, где каждое произведение является частью более широкого повествовательного целого.
Современное вокальное искусство с его исследованиями пределов человеческого голоса находит отклик в формальных экспериментах Куинна. Его последние работы, которые он называет “живописью-рисунком”, раздвигают традиционные границы между живописью и рисунком, подобно тому, как современные композиторы исследуют новые территории вокального выражения. Этот постоянный поиск новых средств выражения сближает Куинна с самыми смелыми лирическими творцами нашего времени.
Преобразование исходных материалов
Творчество Куинна не ограничивается фрагментацией и реконструкцией: оно осуществляет настоящую трансформацию исходных материалов. Это метаморфическое измерение, возможно, является самым выдающимся аспектом его искусства, то, что позволяет ему превзойти простое постмодернистское цитирование и достичь подлинного создания смысла.
Творческий процесс художника напоминает традиционные алхимические операции. Первый этап, называемый “nigredo” или черное дело, соответствует сбору и разложению исходных изображений. Куинн накапливает в своей мастерской тысячи визуальных ссылок, которые он вырезает, классифицирует и наблюдает до одержимости. Эта фаза аналитического растворения напоминает алхимическую кальцинацию, когда исходный материал разлагается на элементарные компоненты.
Фаза “albedo” или белое дело соответствует моменту чистого вдохновения, когда Куинн получает свои “видения”, эти полные ментальные образы, которые направляют создание каждого произведения. Художник описывает это явление как внезапное откровение, сравнимое с мистическими просветлениями, которые сопутствуют алхимической литературе. Эта видениевая составляющая закрепляет его искусство в духовной традиции, выходящей за рамки чисто эстетических соображений.
Красное дело, “rubedo”, соответствует самому акту создания, моменту, когда разрозненные фрагменты превращаются в живой организм. Именно на этом этапе происходит настоящая алхимия, превращение низкопробных материалов, рекламных образов и обывательских фотографий, в живописное золото. Эта трансформация не связана только с техническим мастерством, а представляет собой почти мистическую способность вдохнуть жизнь в неживую материю.
Смешанная техника, используемая Куинном, уголь, масло, пастель и гуашь, отсылает к традиционным алхимическим практикам, которые сочетали минеральные, растительные и животные вещества в секретных пропорциях. Каждый материал приносит свои особые свойства: глубину угля, текучесть гуаши, чувственность пастели, устойчивость масла. Это многообразие медиа превращает каждое произведение в экспериментальную лабораторию, в которой испытываются новые выразительные формулы.
Внимание, уделяемое процессу создания, раскрывает другие алхимические параллели. Куинн работает без предварительных набросков, полностью полагаясь на интуицию и постепенное откровение образа. Этот метод напоминает гадательные практики алхимиков, которые читали в трансформации материи знаки судьбы и высшего знания.
Понятие “Solve et Coagula” (расщеплять и связывать), основная максима алхимии, находит идеальную иллюстрацию в искусстве Куинна. Его лица кажутся постоянно находящимися между растворением и кристаллизацией, их нестабильные контуры намекают на состояние постоянной трансформации. Эта эстетика промежуточного состояния придает портретам гипнотическое качество, которое одновременно завораживает и вызывает беспокойство.
Поэтика композиции
Выходя за рамки архитектурной и оперной составляющих, творчество Куинна развивает настоящую поэтику композита, которая ставит под вопрос наши традиционные представления об идентичности и представлении. Этот фрагментарный подход не является простым стилистическим приемом, а представляет собой глубоко современное мировоззрение, питаемое нашим повседневным опытом множества и гибридизации.
Современная социология широко документировала появление множественных субъективностей в наших постиндустриальных обществах. Работы социологов, таких как Бернар Лахир о множественной личности, находят тревожный отклик в портретах Куинна, где каждое лицо, кажется, населено несколькими личностями одновременно [2]. Эта идентичностная фрагментация, часто вызывающая тревогу в повседневном опыте, у Куинна становится материалом для трагической красоты необычайной силы.
Художник не просто констатирует это многообразие: он раскрывает его поэтическое измерение. Его сложные лица функционируют как визуальные метафоры нашего современного состояния, зажатого между унаследованными традициями и постоянными инновациями, между личными воспоминаниями и медийными образами, между стремлением к единству и принятием фрагментации.
Эта поэтика находит своё наивысшее выражение в недавних работах, вдохновлённых Элис Уокер. Захватывая литературных персонажей, Куинн осуществляет двойной перенос: он транслирует в визуальный регистр изначально текстовые произведения и актуализирует в современном искусстве фигуры, происходящие из афроамериканской литературы XX века. Эта двойная трансляция свидетельствует о выдающейся художественной зрелости и остром сознании современных культурных проблем.
Искусство присутствия
Искусство Натаниэля Мэри Куинна ставит перед нами важнейший вопрос: что значит быть присутствующим в мире в эпоху всеобщей фрагментации? Его портреты, далеко не поддаваясь постмодернистскому нигилизму, напротив утверждают возможность аутентичной красоты в самом центре современной дезинтеграции. Эта красота рождается не вопреки фрагментации, а благодаря ей, находя в хрупком соединении разнородных фрагментов новую форму целостности.
Художник учит нас, что идентичность строится не на искусственной согласованности, а на принятии наших составных множественностей. Его раздробленные лица становятся тревожными зеркалами, в которых мы узнаём собственные трещины, собственные постоянные реконструкции. Это тревожное, но освобождающее признание открывает путь к новой форме эмпатии, основанной не на идентификации, а на взаимном признании нашего общего хрупкого состояния.
Натаниэль Мэри Куинн предлагает нам гораздо больше, чем живописное произведение: он предлагает этику присутствия, основанную на принятии незавершённости и праздновании гибридизации. В мире, одержимом чистыми идентичностями и однозначными принадлежностями, его искусство утверждает плодовитость смешиваний и красоту реконструкций. Этот урок, преподнесённый с особой грацией великих художников, будет с нами долгое время после созерцания его работ. Ведь Куинн не просто рисует лица: он раскрывает тайную архитектуру наших современных душ с их разрывами и швами, падениями и воскрешениями. И в этом откровении мы обнаруживаем не предсказанное отчаяние, а удивительную способность искусства преобразовывать наши трещины в свет.
- Питер Айзенман, Diagram Diaries, Лондон, Thames & Hudson, 1999.
- Бернар Лахир, L’Homme pluriel : Les ressorts de l’action, Париж, Hachette Littératures, 2005.