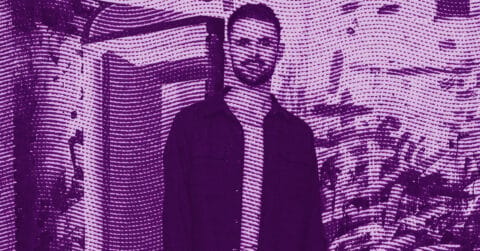Слушайте меня внимательно, кучка снобов: пока вы наслаждаетесь последними причудами западного арт-рынка, человек в Тамале, на севере Ганы, ткет поэтику руины, которая ставит под сомнение ваши комфортные убеждения. Ибрагим Махама не играет по правилам, которые от него ждут. Он отвергает кодексы, искажает ожидания и строит буквально произведение, которое ставит под вопрос сами основы наших материальных и повествовательных структур. Этот художник, родившийся в 1987 году, не ограничивается созданием монументальных инсталляций: он переписывает правила архитектуры и литературы на языке, сделанном из изношенных мешков из джута, заброшенных вагонов и обветшалых больничных кроватей.
Поговорим об архитектуре, поскольку Махама подходит к ней с дерзостью, от которой многие современные строители покраснеют. Там, где другие просто украшают фасады драпировками для красоты, он вкладывает в структуры концептуальное насилие, которое расшатывает наши пространственные представления. Его архитектурные вмешательства, не просто эстетические жесты. Они воплощают материальную критику колониализма и его изношенной инфраструктуры. Когда он оборачивает Barbican в Лондоне инсталляцией Purple Hibiscus, массивным полотном в две тысячи квадратных метров, он не украшает здание: он символически душит его под тяжестью постколониальной истории [1]. Этот жест жестокий, почти удушающий, как колониальные наследия, которые он осуждает.
Но архитектура у Махамы никогда не бывает только метафорой. Она становится площадкой для конкретного социального эксперимента. С Savannah Centre for Contemporary Art, который он основал в 2019 году, а затем Red Clay Studio и Nkrumah Volini, он создаёт пространства, бросающие вызов западным институтским конвенциям культуры. Эти здания, построенные из местного глиняного кирпича, обожжённого на солнце, не стремятся имитировать европейские музеи с кондиционерами. Махама утверждает, что искусство должно мыслить в связке с местными условиями, и качество не ниже лишь потому, что оно адаптируется к энергетическим и климатическим ограничениям Ганы. Такой прагматичный, но радикальный архитектурный подход переворачивает неявную иерархию между Севером и Югом. Его конструкции, не бедные заменители западных институтов, а альтернативные модели, которые ставят под сомнение саму релевантность стандартов, которые мы считаем универсальными.
Архитектура у Махамы становится также актом материальной памяти. Когда он превращает колониальные железнодорожные вагоны в классные комнаты и студии звукозаписи, он практикует форму временной хирургии. Эти инфраструктуры, когда-то служившие инструментами британской колониальной эксплуатации, преобразуются в образовательные пространства для местных сообществ. Оттертая кожа с полов вагонов, отмеченная распадом и временем, раскрывает раны, которые становятся самой сущностью произведения. Как он сам говорит, эта кожа похожа на содранную кожу, несущую все шрамы кризисной системы здравоохранения. Эта архитектурная трансформация ничто не приукрашивает: она обнажает, расслаивает, выявляет травмы, вписанные в сами материалы.
Но, возможно, именно в своем подходе к литературе Махама проявляет свою самую грозную тонкость. Не то чтобы он писал, хотя и создает эссе и теоретические размышления, но потому что он воспринимает свое творчество как тканый текст, материальное повествование, которое ведет диалог с великими голосами африканской литературы. Когда он называет выставку Purple Hibiscus по роману Чимаманды Нгози Адичи [1], он не просто делает культурный намек. Он устанавливает структурный параллелизм между письмом Адичи и своей собственной практикой. Роман Адичи, опубликованный в 2003 году, рассказывает историю Камбили, подростка, живущего под тиранической властью отца, одновременно публичного филантропа и домашнего тиранa. Пурпурный гибискус в саду тети Ифеомы символизирует свободу и восстание против семейного и религиозного гнета.
Махама понимает, что этот редкий цветок несет точно такую же символическую нагрузку, как и его собственные восстановленные материалы. Его джутовые мешки с маркировкой “Product of Ghana” путешествовали из Юго-Восточной Азии, чтобы перевозить ганский какао, главный экспортный ресурс страны в начале двадцатого века. Эти мешки, как пурпурный гибискус Адичи, воплощают тонкую форму сопротивления, красоту, бросающую вызов угнетающим структурам. Они несут следы принудительного труда, навязанной миграции, системной эксплуатации. Собирая их вместе с местными сотрудниками для создания монументальных пэчворков, Махама практикует коллективное письмо, повествование, сшитое нитка за ниткой.
Точно так же, как Адичи использует игбо в своем английском, создавая гибридный язык, который отвергает колониальную гегемонию, Махама смешивает колониальные материалы (импортированные мешки, британские рельсы) с местными техниками (ручное ткачество, глиняное строительство). Эта материальная повествовательная стратегия создает формальный словарь, говорящий на нескольких языках одновременно. Произведение становится полифоничным, отвергая стилистическую чистоту, которую западный мир искусства хотел бы навязать. Он также цитирует Чинуа Ачебе, называя некоторые работы по названиям романов нигерийского писателя, создавая таким образом интертекстуальную сеть, которая укореняет его творчество в африканском литературном наследии [2].
Эта литературная составляющая не ограничивается заимствованными названиями. Махама практикует то, что можно назвать “материальным чтением” истории. Его произведения функционируют как нелинейные рассказы, где каждый объект несет нарративный слой. Восстановленные школьные парты, коробки для обувной мази, сети для копчения рыбы, все эти элементы составляют нарративный словарь, который рассказывает истории о труде, миграции, экономическом выживании. Махама заявляет, что его интересует момент, когда разрывается связь между материалом и обществом, раскрывая изъяны системы. Это внимание к нарративному разрыву напоминает модернистские техники фрагментации, но примененные в скульптурной и архитектурной сферах.
Понятие “призраков” также пронизывает его творчество как литературный лейтмотив. Во время пандемии COVID-19 он пишет, что “обещания настоящего могут начинаться с призраков будущего и прошлого” [3]. Эти призраки воплощают невыполненные обещания, сорванные будущие, заброшенную инфраструктуру. Они населяют его инсталляции, как призрачные персонажи населяют готические романы. Но в отличие от европейской готики, призраки Махамы политические, экономические, глубоко укоренившиеся в постколониальной реальности. Они не наводят ужас: они свидетельствуют.
Его метод работы сам по себе напоминает процессы совместного написания и редактирования. Он выкупает материалы у торговцев металлоломом, разбирает их, изучает, собирает заново. Это процесс материальной переписи, исправления, аннотирования. Махама говорит о “путешествии во времени” для описания своего подхода: способе перемещаться между прошлым, настоящим и будущим, реактивируя заброшенные объекты. Эта плавная временная концепция напоминает сложные повествовательные структуры постмодернистской литературы, где линейное время растворяется в пользу переплетённых временных слоёв.
Что делает Махаму по-настоящему подрывным, так это его категорическое отказ от эстетики утешения. Он не предлагает вам красивые успокаивающие метафоры об африканской устойчивости. Он не возвышает бедность до экзотики для измученных коллекционеров. Напротив, его работы сохраняют грубость, грязь, следы износа. Мешки из джута остаются прорванными, запятнанными, порой вонючими. Эта эстетика принятого мусора отвергает словарь западной красоты, создавая при этом визуально впечатляющие композиции. Это мощный парадокс: монументальные произведения из обломков, вызывающие уважение и одновременно отвергающие традиционное величие.
Педагогический аспект его работы также заслуживает внимания. Махама вкладывает доходы от продаж в строительство общественных пространств. Он преобразует заброшенные зернохранилища, списанные самолёты, тюрьмы в учебные пространства. Эта архитектурная и социальная практика, возможно, является его самой радикальной работой: создание материальных условий для появления будущих поколений художников. Он утверждает, что когда строятся художественные сообщества, “эти сообщества наполнены любовью”. Заявление, которое может показаться наивным, но приобретает всю значимость при наблюдении конкретного воздействия его инфраструктур на севере Ганы.
И вот суть дела: Махама отказывается от разделения художественной практики и социальной ответственности. Он отвергает идею, что современное африканское искусство должно просто производить объекты для международных рынков. Его пространства функционируют как контринституты, лаборатории, где местный интеллект превалирует над импортированными моделями. Он сотрудничает с плотниками, сапожниками, охранниками, татуировщиками, людьми, чьи навыки обычно невидимы в мире искусства. Этот совместный подход порождает произведения, несущие отпечатки множества рук, множество голосов.
Западные критики обожают говорить о “деколонизации”, как будто это элегантная интеллектуальная поза. Махама же деколонизирует конкретно: восстанавливая колониальную инфраструктуру для её повторного использования, создавая альтернативные экономики вокруг материального восстановления, обучая молодёжь на севере Ганы, а не в Лондоне или Нью-Йорке. Его деколонизация не риторическая: она материальна, архитектурна, экономична. Мари-Анн Йемси, куратор в Palais de Tokyo в Париже, утверждает именно, что он “играет огромную роль в деколонизации воображения” [4].
Было бы заманчиво закончить на оптимистичной ноте, отпраздновать Махаму как героя современного искусства, как образец для всех. Но это предало бы сам дух его творчества. Ведь то, что Махама нам предлагает,, это не рассказ о триумфе, а глубокое размышление о провале как плодородном материале. Он сам говорит, что интересуется провалом как материалом, но и как потенциалом, идеей, что провал открывает портал для переосмысления мира, в котором мы живём. Эта философия продуктивного провала переворачивает наши героические ожидания. Она предполагает, что именно в остановке, в разрыве, в отказе скрыты возможности для переизобретения.
Его ржавые вагоны, изношенные больничные койки, прорванные мешки, всё это свидетельствует о провалах систем. Колониальная железнодорожная система, которая никогда не служила местному населению. Недофинансированная система здравоохранения. Мировая экономика, которая рассматривает африканское сырьё как простые товары. Махама не скрывает эти провалы. Он их выставляет напоказ, изучает и превращает в инструменты для размышлений. Его работы становятся вскрытиями постколониального капитализма, выявляя механизмы эксплуатации в самой текстуре материалов.
Что отличает Махаму от художников, которые ограничиваются только критикой, так это то, что он одновременно строит альтернативы. Его художественные центры, не памятники его собственной славе, а живые инфраструктуры, постоянно меняющиеся. Они принимают выставки, которые длятся шесть месяцев, чтобы жители удалённых деревень могли совершить путь. Они архивируют работы ганских художников предыдущих поколений, чьи произведения находились на грани исчезновения. Они учат детей программированию, робототехнике, цифровым технологиям, при этом сохраняя связь с материальными практиками.
В мире современного искусства, одержимом новизной, Махама практикует другое восприятие времени. Его работы смотрят назад, чтобы вообразить будущее. Они черпают из руин прошлого материалы для будущего. Такое отношение ко времени не ностальгическое и не футуристическое: оно одновременно археологическое и провидческое. Он копается в слоях колониальной и постколониальной истории, чтобы извлечь неизведанные потенциалы.
Так что да, Ибрагим Махама заслуживает внимания. Не потому, что он представляет современное африканское искусство (как будто существует такая монолитная категория), а потому, что предлагает радикальную переосмысленную роль искусства в мире. Он напоминает нам, что материалы несут истории, здания, это тексты, а художественные жесты могут строить реальные сообщества. Его творчество, яркое доказательство того, что искусству не нужно выбирать между интеллектуальной строгостью и социальным воздействием, между формальной красотой и политической ангажированностью. Оно может быть всем этим одновременно, во всей своей жесткой и прекрасной сложности. И если это вас раздражает, тем лучше: именно это и было намерением.
- Чимаманда Нгози Адичи, Purple Hibiscus, Algonquin Books, 2003.
- Чинуа Ачебе, нигерийский писатель (1930, 2013), автор, в частности, Things Fall Apart (1958), считающийся основополагающим текстом постколониальной современной африканской литературы.
- Ибрагим Махама, вклад в серию Messages of Hope Designboom во время пандемии COVID-19.
- Мари-Анн Емси, куратор выставки Ubuntu, a Lucid Dream в Palais de Tokyo в Париже.