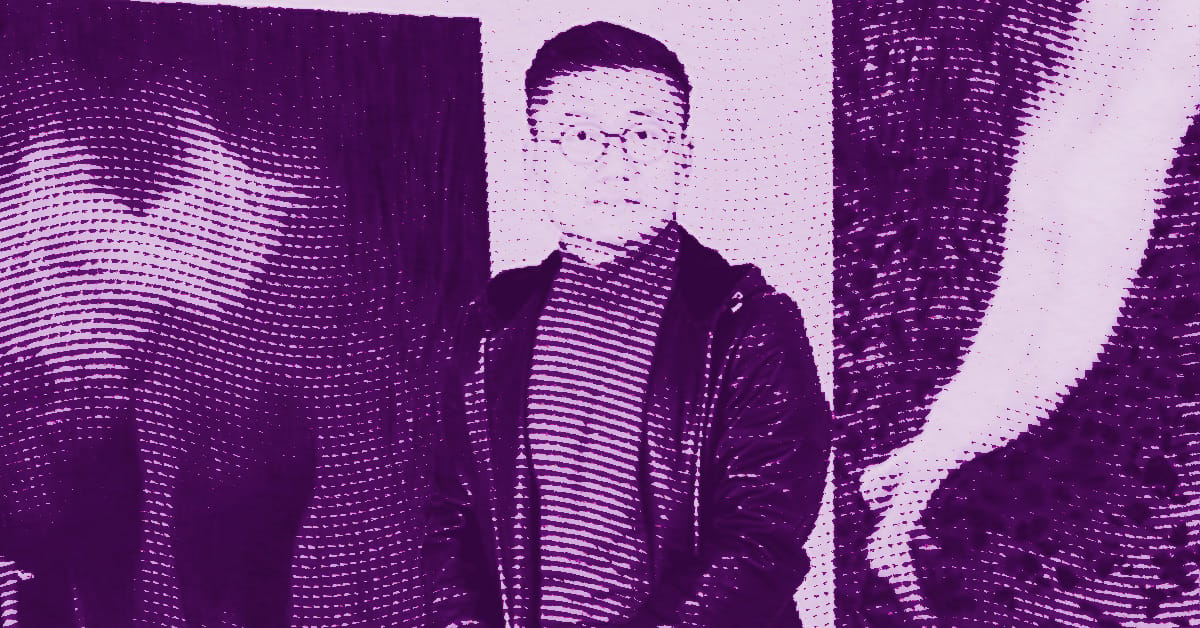Слушайте меня внимательно, кучка снобов: пока вы восхищаетесь последними концептуальными инсталляциями, которые превращают галереи в залы ожидания аэропорта, китайский художник, живущий в Париже уже двадцать лет, терпеливо создает произведение, которое ставит под вопрос существование с такой остротой, что вам должно быть стыдно за свои убеждения. Се Лэй только что получил премию Марселя Дюшана 2025 года, и этот триумф, не случайность: он отмечает художественную практику, которая исследует бездны человеческой неоднозначности с интеллектуальной строгостью, которой немногие еще осмеливаются заявить на современном художественном ландшафте.
Родился в Хуайнане в 1983 году, обучался в Пекинской и Парижской академиях изящных искусств, где защитил первую докторскую диссертацию по пластической практике в парижском институте, Се Лэй принадлежит к поколению художников, которые никогда не отказались от живописи, несмотря на соблазны концептуального искусства. Его диссертация называлась “Между днем и ночью: Поэтика странности для художника современности”, что великолепно резюмирует его художественный проект. Ведь именно в этот неопределенный час, в тот момент, когда день переходит в ночь, неясно, где находится граница, таится вся сила его работы.
Для премии Марселя Дюшана 2025 года Се Лэй представил семь монументальных полотен фосфоресцирующего зеленого цвета, на которых призрачные тела, кажется, плавают в космическом амниотическом жидкости. Свободное падение или вознесение? Художник отказывается решать, предпочитая оставлять свои фигуры в этом состоянии метафизической невесомости, присущем его творчеству. Силуэты, намеренно размытые и лишенные идентифицируемых черт, излучают почти сверхъестественный свет в растительном декоре, напоминающем как морские глубины, так и ночные леса. Эта неопределенность, не формальная лень, а заявленный эстетический проект: отказываясь фиксировать личность, пол или даже полное человечество своих фигур, Се Лэй открывает пространство для универсальных проекций.
Французская литература сыграла решающую роль в формировании его воображения. Среди его основных источников вдохновения, Альбер Камю, чья незаконченная первая книга “Счастливая смерть” (1971) [1] дала название недавней персональной выставке в Semiose в 2025 году. Этот камюзовский оксюморон (как можно одновременно быть и мертвым, и счастливым?) глубоко резонирует с живописным подходом Се Лэя. В этом романе, написанном между 1936 и 1938 годами, но оставленном самим Камю, персонаж Патрис Мерсо отчаянно ищет счастья, даже если ему придется совершить убийство, чтобы завладеть деньгами для полноценной жизни. Этот экзистенциальный поиск заканчивается спокойным принятием смерти в слиянии с средиземноморской природой, предвосхищающим темы “Постороннего” (L’Étranger).
Се Лэй присваивает себе это напряжение между жизнью и смертью, этот подвешенный момент, когда Мерсо, больной и ясный, принимает свою судьбу с формой трагического эйфории. Его картины именно культивируют эту зону неопределённости: тела, которые он изображает,, это умирающие или существа в мистическом левитации? Они погружаются в бездну или возрождаются в духовном измерении? Эта структурная двусмысленность вписывается в традицию философии абсурда, развитой Камю, где человек должен создавать свой собственный смысл перед лицом мира, лишённого присущего значения. Фигуры Се Лэя, кажется, воплощают тот самый момент, когда человеческое сознание сталкивается с бессмыслицей бытия, не погружаясь при этом в нигилистическое отчаяние.
Оксюморон “счастливая смерть” находит своё живописное воплощение в цветовых решениях художника. Эти водяные зелёные, глубокие синие, оранжево-жёлтые оттенки, окружающие его персонажей, не соответствуют никакому естественному оттенку кожи. Се Лэй составляет свои палитры, не прибегая ни к чёрному, ни к белому, наслаивая около десяти слоёв синих и зелёных, чтобы достичь этого нереального, почти психоделического тона. Результат создаёт эффект призрачного присутствия: тела кажутся одновременно ужасно плотскими и совершенно эфирными, как будто материя растворяется в свете. Эта цветовая двойственность материализует интуицию Камю, согласно которой самый интенсивный счастье может возникнуть именно в тот момент, когда человек принимает конечность бытия.
Когда Се Лэй называет свои картины одним словом, “Объятие”, “Дыхание”, “Владение” или “Спасение”, он действует так же, как Камю, давая название своему роману: через максимальную конденсацию смысла, оставляющую все интерпретации открытыми. Поцелуй может быть любовным объятием или вампирическим удушением. Дыхание может означать жизнь, которая продолжается, или последний выдох, который уходит. Эта лексическая экономия заставляет зрителя столкнуться с собственной проекцией на произведение, признать, что смысл никогда не дан, а всегда строится смотрящим. В “Счастливой смерти” Мерсо достигает счастья не находя ответы, а принимая противоречия, присущие человеческому существованию. Картины Се Лэя предлагают подобный опыт: они ничего не разрешают, но предлагают пространство для созерцания, где парадоксы могут сосуществовать.
Художник признался в интервью: “Мои темы, это химеры, комбинации элементов, взятых из моей памяти. Обычные сцены, в которых всегда происходит нечто необычное” [2]. Это заявление показывает близость с миром Камю, где повседневность внезапно скатывается в абсурд, где офисный служащий может стать убийцей под ослепляющим алжирским солнцем. “Химеры” Се Лэя, это те моменты, когда реальность трескается и открывает другую измерение существования, ни совсем живое, ни совсем мёртвое, ни совсем присутствующее, ни совсем отсутствующее. Именно в этой промежуточной зоне и скрывается “счастливая смерть”: не конечное состояние, а переход, зона перехода, где противоположности соприкасаются.
Отношения между Се Лэем (Се Лэй) и психоанализом, особенно с работами Юлии Кристева, освещают ещё одно важное измерение его творчества. Среди теоретических источников, которые он явно цитирует, фигурирует эта франко-болгарская писательница, чьи исследования о презрении, чуждости и пограничных состояниях идентичности находят яркие отклики в его живописи. Кристева разработала в “Чужие мы сами” (1988) [3] глубокое размышление о фигуре чужака, не как о другом, кого отвергают, а как о той части нас самих, которую мы подавляем. Она пишет, что “чужой живёт в нас: он, скрытая сторона нашей личности, пространство, разрушающее наш дом”. Эта идея о том, что самая радикальная инаковость находится внутри нас, сильно пронизывает работы Се Лэя.
Его безликие фигуры, без определённого пола, без явной этнической принадлежности, воплощают именно эту чуждость, составляющую основу любой идентичности. Отказываясь давать своим персонажам черты, которые позволили бы отнести их к социальной, расовой или половой категории, Се Лэй удерживает их в состоянии “бегства идентичности”. Эти парящие тела, с размытыми контурами, кажутся постоянно в метаморфозе, словно идентичность никогда не фиксирована, а всегда в становлении. Кристева подчёркивала, что признание чужого внутри себя позволяет не ненавидеть его у другого. Живопись Се Лэя действует по тому же принципу: изображая существа, ускользающие от любой устойчивой категоризации, он противостоит нашей фундаментальной неопределённости.
Концепция отвращения у Кристевы также находит отклик в творчестве Се Лэя, особенно в его обращении к растворению тел. Отвращение, согласно Кристева в “Силах ужаса” (1980) [4], обозначает то, что нарушает идентичность, систему, порядок, что не соблюдает границ, места, правила. Фигуры, написанные Се Лэем, именно отвращательны в этом смысле: они размывают границы между живым и мёртвым, материальным и нематериальным, я и другим. Их плоти кажутся растворяющимися в живописной среде, контуры смешиваются с ореолами света, окружающими их, создавая намеренную путаницу между субъектом и фоном. Эта онтологическая нестабильность вызывает плодотворное беспокойство у зрителя, который не может зафиксировать взгляд на формах, постоянно ускользающих.
Живописный процесс Се Лэя, последовательные слои масляной краски, затем царапины кистью, бумагой или даже рукой, участвует в эстетике растворения. Иногда угадываются отпечатки пальцев в краске, следы физического присутствия, которое, кажется, само исчезает. Эта техника создаёт поверхности большой тактильной сложности, где свет, кажется, исходит изнутри холста, а не отражается на его поверхности. Тела становятся автономными светящимися источниками, фосфоресцирующими, как будто ими движет жизненная энергия, которая сохраняется даже в момент разрушения формы. Возможно, именно тут размышления Кристева о меланхолии резонируют с творчеством художника.
В книге “Soleil noir : Dépression et mélancolie” (1987) Кристева исследует психические состояния, в которых субъект переживает утрату, не способную быть символизированной языком. Меланхолия характеризуется неспособностью оплакать потерю, парадоксальной привязанностью к утраченной вещи, которая становится неотъемлемой частью “я”. Призрачные образы Ши Лэя (Си Лэя) можно понимать как живописные воплощения этого меланхолического состояния: они не совсем присутствуют и не совсем отсутствуют, они населяют живописное пространство как призраки, не способные покинуть мир живых. Их фантомное свечении вызывает ощущение сохранения того, что исчезло, настойчивого присутствия отсутствия, которое определяет меланхолический опыт. Зелёный водный оттенок, преобладающий в его последних сериях, можно также читать как жидкую метафору этого психического состояния, текучего, без чётких контуров, где субъект теряется в смертельно опасной мечтательности.
Кристева также развивала размышления о материнском измерении психики, о той первичной связи с матерью, которая предшествует всей идентичностной конструкции. Зелёные и водные пространства, которые рисует Си Лэй, с их обволакивающими и погружающими качествами, неизбежно ассоциируются с амниотической жидкостью, тем первоначальным окружением, где плод ещё не различает себя и внешний мир. Тела в свободном падении или левитации, заселявшие его полотна, словно возвращаются к этому пренатальному состоянию слияния, стремясь обрести утраченную полноту. Эта регрессия к первичной недифференциации, отчаянная попытка избежать страданий индивидуации, тех ран, которые неизбежно причиняет отделение от матери.
Творчество Си Лэя явно подпитывается его ночными снами, что художник не раз подтверждал в интервью. Для своего проекта на премию Марселя Дюшана он опирался на повторяющийся сон: полёт, превращающийся в кошмар падения. Кристева, обученная фрейдистскому и лакановскому психоанализу, придавала огромное значение работе сновидений в художественном творчестве. Сон позволяет получить доступ к областям психики, недоступным дневному сознанию, придавая форму тревогам и желаниям, которые иначе выразить невозможно. Картины Си Лэя функционируют как визуальные сны: они подчинены сновидческой логике, где законы физики и идентичности приостановлены, где тела могут плавать без силы тяжести, где цвета не обязаны соответствовать реальности. Эта сновидческая составляющая частично объясняет гипнотический эффект его полотен: они погружают нас в изменённое состояние, между бодрствованием и сном, аналогичное тому, которое сам Си Лэй стремится достичь для создания своих работ.
Художник описал свою методику работы в два этапа: сначала умственный и концептуальный, затем физический и жестовый. Эта двойственность напоминает разделение у Криставы на символическое и семиотическое, между порядком структурированного языка и порядком телесных импульсов, которые его выходят за рамки. Если первая фаза соответствует символическому, выбору изображения, поиску его множественных значений, изучению культурных резонансов, то вторая относится к семиотическому: художник уступает место случаю, “счастливым случайностям”, спонтанности жеста, неподвластной рациональному контролю. Этот диалектический процесс между контролем и отпусканием создаёт произведения, в которых интеллект и тело постоянно ведут диалог, где философская мысль воплощается в живописной материи, не сводясь к простой иллюстрации идей.
Вопрос, который ставит Се Лэй в своей практике, можно сформулировать так: как изобразить неоднозначность в живописи? Как придать видимую форму тому, что по определению отказывается от всякой фиксации, любой стабильной определённости? Кристева выявила “возмутительное” измерение в настоящем искусстве, то есть его способность ставить под вопрос устоявшиеся порядки, нарушать успокаивающие классификации, раскрывать сложность, скрытую под кажущейся простотой. Картины Се Лэя возмутительны именно в этом смысле: они противостоят однозначному прочтению, разочаровывают зрительское желание прозрачного смысла, навязывают сбивающий с толку опыт красоты, которую невозможно овладеть. Они заставляют нас принять, что существуют области неустранимой неопределённости, что все парадоксы не могут быть разрешены, что некоторые вопросы должны оставаться открытыми.
Это принятие неоднозначности, не лёгкий релятивизм, а этическое и эстетическое требование. В современном мире, одержимом ясностью, эффективностью и немедленностью, где каждый феномен должен быть объяснён за несколько секунд в социальных сетях, Се Лэй отстаивает принятую сложность. Его полотна требуют времени, терпения, редкой сегодня созерцательной доступности. Они не раскрываются с первого взгляда, а разворачиваются медленно, постепенно открывая свои слои значений. Эта медленность сама по себе является политическим жестом: против повсеместного ускорения нашей жизни, против тирании бесконечного “скроллинга”, художник устанавливает медитативный ритм, позволяющий зрителю восстановить связь с собственной внутренностью.
Директор Музея современного искусства в Париже, Фабрис Эрго, отметил в творчестве Се Лэя “особенно совершенное выражение того, что представляет собой начало XXI века”, где “отсутствие ориентиров и головокружение стали самыми распространёнными ощущениями”. Это социологическое прочтение не должно заставлять нас забывать, что сила этих картин заключается именно в их отказе от современной анекдотичности. Се Лэй не изображает нашу эпоху так, как описал бы её журналист, он улавливает глубокую аффективную структуру, эту экзистенциальную тревогу, которая превосходит конкретные исторические обстоятельства. Его призрачные фигуры говорят как о нашем настоящем, так и о человеческом состоянии в целом, о той метафизической одиночестве, с которой каждое поколение должно справляться по-своему.
Вот художник, который ни отказался от фигуративности, ни от философских амбиций искусства, который отвергает легкости как первого уровня, так и полного абстракционизма, который терпеливо создает требовательное произведение в контексте, неблагоприятном для требования. Его венчание премией Марселя Дюшана не следует считать просто институциональным признанием, а скорее симптомом коллективной потребности: потребности вновь обрести, глядя на полотна Се Лэя, глубину размышлений, которую современный арт-рынок слишком часто эвакуировал в пользу зрелищности и скандальности. Эти тела, подвешенные между падением и взлетом, между присутствием и отсутствием, между жизнью и смертью, напоминают нам, что настоящее искусство ничего не решает, но углубляет наши вопросы, не утешает, но делает нас более прозорливыми перед загадкой нашего собственного существования. В мире, насыщенном мгновенными изображениями и фабрикатами эмоций, Се Лэй дарит нам нечто ставшее драгоценным: необходимое молчание, чтобы услышать тревожный шепот наших собственных бездн. Возможно, именно это и можно назвать счастливой смертью: принять смотреть в лицо тому, что нас пугает, и открыть в этом противостоянии не ужас, а странную форму спокойствия. Художник не обещает нам счастья, но показывает, как поэтически обитать в наших противоречиях, как превратить наши головокружения в живописную материю, как сделать из нашей конструктивной неопределенности не слабость, а сам источник тревожной и необходимой красоты.
- Альбер Камю, “Счастливая смерть”, Gallimard, коллекция Cahiers Albert Camus, 1971
- Цитата Се Лэя, опубликованная в каталоге выставки Премии Марселя Дюшана 2025 года, Музей современного искусства Парижа
- Юлия Кристева, “Чужие сами себе”, Fayard, 1988
- Юлия Кристева, “Власти ужаса: Очерк о отвращении”, Éditions du Seuil, 1980