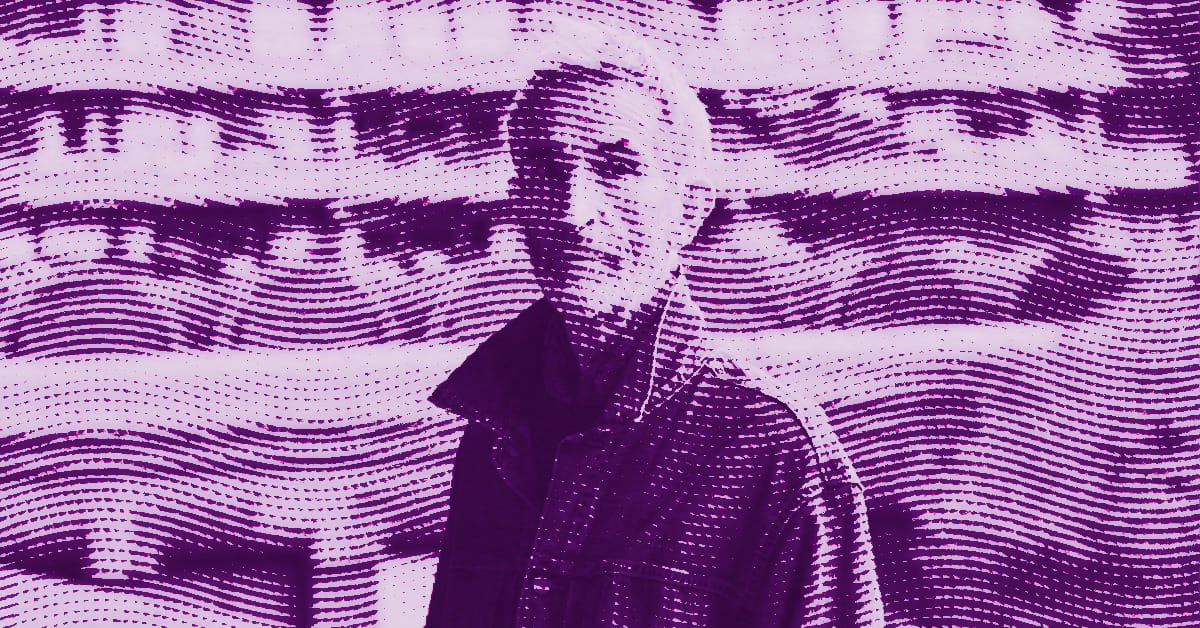Слушайте меня внимательно, кучка снобов: Фрэнсис Алис не просит нас понять его произведения, он просит нас пройти через них. В мире, насыщенном зрелищными изображениями и громкими художественными жестами, этот бельгиец, живущий в Мехико с 1986 года, развивает художественную практику, основанную на простоте действия и сложности его резонансов. Он не художник в традиционном смысле, и не перформер в театральном смысле, Алиc занимает уникальную художественную территорию, где акт ходьбы становится инструментом поэтического сопротивления современным городским логикам.
Произведение Фрэнсиса Алиcа расцветает в промежуточном пространстве между искусством и антропологией, между минимальным жестом и максимальной политической нагрузкой. С первых своих прогулок по улицам Мехико в начале 1990-х годов художник развивает практику, исследующую способы освоения городского пространства. Его действия, задокументированные видеозаписью и продолженные живописью, составляют связный корпус исследований современных геополитических напряжений.
Родившийся в Антверпене в 1959 году, Фрэнсис Алиc приехал в Мексику в качестве архитектора, назначенного участвовать в проектах по восстановлению после землетрясения 1985 года. Это архитектурное образование осталось фундаментальным в его художественном подходе: он никогда не забывал, что городское пространство, это прежде всего социальное создание, совокупность ограничений и возможностей, которые определяют способы коллективного существования. Его переход к искусству около 1989 года стал скорее радикализацией его заботы об пространстве, раскрывающем социальные силовые отношения, чем разрывом.
Ходьба как письмо пространства
Произведение Фрэнсиса Алиcа находит своё глубочайшее теоретическое отражение в мыслях Мишеля де Серто, особенно в его анализе ходьбы как практики пространства, изложенном в “Изобретении повседневности”. Для де Серто акт ходьбы представляет собой форму пространственного высказывания, которая ускользает от систем контроля и надзора городов [1]. Эта перспектива радикально меняет наше понимание прогулок Алиса: они перестают быть простым эстетическим упражнением и становятся настоящей политикой пространства.
В “The Collector” (1991-1992) Алиc тянет магнитную игрушечную собаку по улицам Мехико, собирая металлические обломки, разбросанные по асфальту. Этот на первый взгляд игривый акт через постепенное накопление железных остатков выявляет состояние разрушения мексиканской городской инфраструктуры. Минимальный жест Алиса превращает прогулку в инструмент социального исследования, раскрывая то, что официальные городские политики стараются скрыть.
Критическое измерение прогулки находит свое наиболее полное выражение в “Paradox of Praxis I (Sometimes Making Something Leads to Nothing)” (1997), где Альйс толкает ледяной блок по улицам Мехико в течение девяти часов до его полного таяния. Это действие напрямую ставит под вопрос понятия продуктивности и эффективности, которые структурируют неолиберальную экономику. Прилагая значительные усилия для нулевого результата, Альйс актуализирует размышления Мишеля де Серто о тактиках повседневного сопротивления: цель состоит в том, чтобы нарушить, через логику абсурда, ритмы и цели, навязанные рациональной организацией городского пространства.
Прогулки Альйса вписываются в теоретическую традицию, которая, от Бодлера до Серто и ситуационистов, рассматривает городскую прогулку как критическую практику. Но Альйс радикализирует этот подход, превращая свои перемещения в документированные художественные события. Его маршруты больше не являются субъективным опытом фланёра, а представляют собой создание художественных объектов, которые ставят под вопрос современные способы передвижения и контроля в городском пространстве.
Этот подход находит особый отклик в мексиканском контексте, где стремительная урбанизация и неформальность многих районов создают пространство трения между официальным планированием и народными практиками. Альйс развивает поэтику этих интерстиций, показывая, как жители ежедневно изобретают способы использования пространства, которые ускользают от доминирующих логик планирования.
Критическая эффективность действий Альйса заключается в их способности выявлять, через минимальное переосмысление повседневных жестов, невидимые структуры, организующие городской опыт. Идя по-другому, останавливаясь там, где обычно не останавливаются, собирая то, что обычно игнорируется, художник актуализирует откровенную функцию искусства, которую Серто приписывал повседневным практикам сопротивления.
Видеодокументация этих действий не просто фиксирует их, но участвует в их критической эффективности. Превращая эфемерное в архив, делая воспроизводимым невоспроизводимое, Альйс также ставит под вопрос современные способы циркуляции и легитимации искусства. Его видео функционируют как вирусы, распространяющиеся в международных художественных кругах и заражающие другие городские контексты своими вопросами.
Политическое измерение прогулки продолжается в геополитических проектах Альйса, в частности в “The Green Line” (2004), где художник идет пешком, выливая зеленую краску, вдоль линии перемирия 1948 года в Иерусалиме. Это действие выявляет произвольность любой границы и одновременно актуализирует, через простое физическое присутствие пешехода, разделения, которые дипломатические соглашения пытаются натурализовать.
Эта политика прогулки имеет свои теоретические основы в анализе, предложенном Серто о повседневных “искусствах делать”. Для французского теоретика эти обычные практики представляют собой микрополитические формы сопротивления, которые, не свергнув доминирующих структур, достаточно их нарушают, чтобы создать пространства свободы. Альйс радикализирует этот анализ, превращая эти нарушения в художественные события, которые раскрывают политическое измерение казалось бы обыденных жестов.
Распространение чувствительного и перераспределение ролей
Художественная практика Фрэнсиса Алиса получает дополнительное важное теоретическое освещение в размышлениях Жака Рансьера о “разделении чувств” и политической функции искусства. Для Рансьера политическое искусство не состоит в передаче политических сообщений, а в перераспределении границ между видимым и невидимым, между высказываемым и невыразимым, которые структурируют социальный порядок [2]. Эта перспектива позволяет понять чисто политический аспект вмешательств Алиса, которые никогда не связаны с пропагандой, а с перераспределением восприятий.
В “When Faith Moves Mountains” (2002) Алиса организует коллективное перемещение песчаной дюны в Лиме, Перу, привлекая пятьсот добровольцев с лопатами. Это действие, с точки зрения геологической эффективности очевидно бессмысленное, радикально перераспределяет обычные социальные роли. Жители трущоб Вентанилла, обычно невидимые в перуанском общественном пространстве, становятся главными героями международного художественного события. Это перераспределение ролей является истинной политической проблемой действия: оно делает видимой популяцию, обычно отодвинутую на маргинесы представления.
Этот политический аспект не связан с явным содержанием произведения, а с его самой формой. Организуя коллективное действие вокруг, казалось бы, абсурдной цели, Алиса временно приостанавливает логику рентабельности и эффективности, которая обычно управляет социальной организацией. Эта приостановка открывает пространство возможностей, где могут появиться другие формы сосуществования, даже временно.
Рансьер подчеркивает, что политическое искусство не состоит в представлении политического, а в перенастройке самих условий представления. Действия Алиса работают именно по этой логике: они не осуждают явно социальное неравенство, а создают ситуации, в которых эти неравенства становятся воспринимаемыми иначе. В “The Green Line” художник не занимает сторону в израильско-палестинском конфликте, но делает ощутимым произвольность любой границы и вместе с тем ее принудительную реальность.
Этот подход находит особенный отклик в латиноамериканском контексте, где отношения между искусством и политикой долгое время рассматривались через призму явной вовлеченности. Алиса развивает альтернативу этой традиции, исследуя косвенные способы, с помощью которых искусство может вмешиваться в общественное пространство. Его действия не борются за конкретное дело, а создают ситуации, в которых зрители призываются пересмотреть свои привычные восприятия социального пространства.
Серия “Children’s Games” (1999, наст. время) наглядно иллюстрирует эту политику перераспределения восприятия. Документируя детские игры в напряженных геополитических контекстах (Афганистан, Ирак, Украина), Алиса никогда не падает в мизерабилизм, а выявляет стойкость форм жизни, которые ускользают от логик войны. Эта стойкость не является посланием надежды, а фундаментальным антропологическим фактом: даже в самых драматичных контекстах изобретательность в игре продолжает структурировать детский опыт.
Этот антропологический аспект работ Алиса перекликается с заботами Рансьера о способности искусства раскрывать формы жизни, игнорируемые доминирующими дискурсами. Документируя эти детские игры, художник не создает свидетельство о войне, а выявляет сосуществование различных времён внутри одного социального пространства. Это сосуществование нарушает однозначные представления о геополитическом насилии, раскрывая неустранимую сложность реального.
Политическая эффективность этих документальных материалов заключается в их способности приостановить наши привычные категории восприятия. Перед изображениями детей, играющих среди развалин Мосула, зритель уже не может сохранять однородное представление о войне. Согласно Рансьеру, именно это приостановление перцептивных уверенности и составляет специфическую политическую функцию искусства: не убеждать, а смущать, не обучать, а дезориентировать.
Картины Альйс разделяют ту же логику перераспределения восприятия. Его маленькие картины, часто написанные ночью, функционируют как поэтические конденсаты его действий. Они не являются иллюстрациями к его перформансам, а выступают автономными объектами, исследующими другие модальности отношения к пространству и времени. Благодаря своему уменьшенному масштабу и деликатному стилю, они контрастируют с географической масштабностью сопровождающих их действий, создавая игру масштабов, которая нарушает наши привычные перцептивные установки.
Такой мультимедийный подход позволяет Альйс исследовать различные формы эстетического сопротивления. Его действия ставят под вопрос использование общественного пространства, его картины выявляют альтернативные временные линии, а видеозаписи исследуют способы циркуляции современного искусства. Это многообразие средств не является проявлением оппортунизма, а представляет собой последовательную стратегию вмешательства в различные режимы чувствительности.
Критическая сила произведений Альйс в конечном счёте связана с его способностью избегать ловушек дидактизма, не скатываясь в эстетику. Его вмешательства не передают явных сообщений, а создают ситуации, в которых привычный порядок восприятия временно приостанавливается. Эта приостановка открывает возможности для перестройки перцептивных установок, что и является истинным политическим вызовом его творчества.
Искусство как лаборатория альтернатив
Произведения Фрэнсиса Альйс глубоко ставят под вопрос современные способы сопротивления неолиберальной рационализации жизни. В ответ на растущую коммерциализацию городского пространства и ускорение социальных ритмов художник развивает практику медлительности и кажущейся неэффективности, которая является формой пассивного сопротивления доминирующим логикам продуктивности.
Это сопротивление не является ностальгией, а изобретением альтернативных способов коллективного существования. Действия Альйс функционируют как лаборатории, в которых экспериментируют с другими отношениями ко времени, пространству и эффективности. В “Rehearsal I” (1999-2001) красный Volkswagen упорно пытается подняться на холм в Тихуане, постоянно терпя неудачи и всегда начиная снова. Эта навязчивая повторяемость ставит под вопрос мифологии прогресса, структурирующие воображение латиноамериканской модернизации.
Критическая эффективность этой работы заключается в способности выявить сизифовский аспект многих проектов экономического развития. Превращая провал в эстетическое зрелище, Альйс не поддаётся цинизму, а раскрывает трагические и комические стороны коллективных устремлений. Это разоблачение не приводит к нравственному уроку, а даёт приостановку уверенности, позволяющую иначе увидеть проблемы развития.
Недавние проекты Альйс в Афганистане и Ираке демонстрируют значительную эволюцию его практики в сторону всё более драматичных контекстов. Эта эволюция не связана с поиском сенсаций, а с радикализацией его вопросов о способах сосуществования в зонах конфликта. В “Reel-Unreel” (2011) два афганских ребёнка бегают по улицам Кабула, поочерёдно разматывая и наматывая киноленту. Это простое действие выявляет сохранение форм игры и изобретательности в условиях постоянной войны.
Эти документальные материалы поднимают сложные вопросы этических аспектов изображения войны. Альйс систематически избегает мизерабилизма, сосредотачиваясь на формах повседневного сопротивления, которые развивают гражданские население. Такой подход перекликается с размышлениями Сьюзен Зонтаг о фотографии войны: вместо того, чтобы документировать страдания, он стремится раскрыть формы жизни, которые сохраняются несмотря на насилие.
Оригинальность Альйса заключается в его способности избегать ловушек гуманитарного вуайеризма, не скатываясь при этом в эстетику насилия. Его документальные работы показывают, как искусство может вмешиваться в контекст конфликта, не претендуя на его решение. Эта скромность парадоксально является политической силой его работ: отказываясь от грандиозных заявлений, он открывает пространства для более нюансированных размышлений о современных геополитических проблемах.
Международный аспект карьеры Альйса также вызывает вопросы о способах циркуляции критического искусства в институциональных кругах. Его произведения, экспонирующиеся в самых престижных западных художественных институциях, ставят под сомнение отношения между эстетическим сопротивлением и коммерческой интеграцией. Это напряжение не отменяет критического значения его творчества, но выявляет структурные противоречия современного искусства.
Эффективность работ Альйса в конечном счёте заключается в их способности создавать ситуации для размышлений, а не объекты культурного потребления. Его действия функционируют как катализаторы, раскрывающие скрытые напряжения в социальном пространстве, не претендуя на их решение. Эта функция раскрытия является специфическим вкладышем искусства в современные политические дебаты: не предоставлять решения, а усложнять формулировки проблем.
Творчество Фрэнсиса Альйса приглашает нас переосмыслить современные формы социальной критики. В противовес эффектным формам политических протестов, он развивает эстетику сдержанности, которая раскрывает политический аспект кажущихся незначительными жестов. Это раскрытие не приводит к программам действий, а к повышению чувствительности к микрополитическим вопросам, которые структурируют повседневное существование.
Сила этого подхода заключается в способности избегать морализаторства, не скатываясь в эстетическое равнодушие. Интервенции Альйса создают ситуации, в которых зрители вынуждены пересмотреть свои привычные отношения к пространству, времени и эффективности. Это переосмысление является необходимым предварительным условием для истинных политических преобразований: оно раскрывает случайность наших восприятий и открывает возможности для альтернативной организации коллективного опыта.
Искусство Фрэнсиса Альйса в итоге учит нас, что политическое сопротивление может идти окольными путями, что критическая эффективность не всегда измеряется масштабом произведённых изменений, а качеством вызванных вопросов. В мире, где эффектные формы протеста часто поглощаются логиками, которым они противостоят, Альйс исследует политический потенциал скромности, медлительности и кажущейся неэффективности. Это исследование представляет собой ценный вклад в современные размышления о формах социальной критики и политических функциях искусства.
- Мишель де Серто, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Париж, Галлимар, 1990.
- Жак Рансьер, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Париж, La Fabrique, 2000.