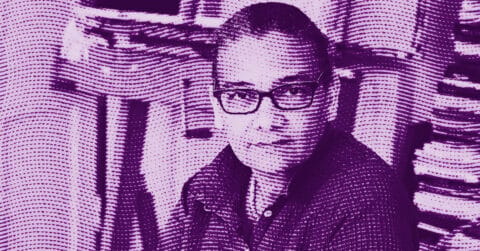Слушайте меня внимательно, кучка снобов: пока вы восторгаетесь монументальными полотнами и шумными инсталляциями, Элисон Ноулз шесть десятилетий создаёт произведение такой незаметной радикальности, что оно становится почти невидимым. Эта американская художница, основательница Fluxus, ушедшая в прошлом месяце, подняла повседневность до уровня партитуры, превратила фасоль в музыкальный инструмент и салат, в поэтическое событие. Ее художественное наследие не измеряется громкими акциями, а повторяющимися жестами, вниманием и совместным присутствием.
Родилась в Нью-Йорке в 1933 году, Элисон Ноулз сначала шла проторёнными путями абстрактного экспрессионизма в Pratt Institute под руководством Адольфа Готтлиба и Йозефа Альберса. Но очень скоро молодая художница осознала то, что позднее выразила с поразительной ясностью: “То, чему я там научилась, это то, что я, художница. То, чему я должна была научиться, это что я не художник-живописец” [1]. Это осознание привело ее к сожжению всех своих картин в костре за домом брата, первоначальный жест, предвосхищающий ее вступление в мир авангардного движения Fluxus. 1962 год стал ее европейским крещением на первом фестивале Fluxus в Висбадене, Германия, вместе с Джорджем Мациунасом, Нам Джуном Пайком и Диком Хиггинсом, который впоследствии стал ее мужем.
Партитура как поэзия жеста
Вклад Элисон Ноулз в историю поэзии XX века до сих пор сильно недооценен, вероятно, потому, что ее практика отвергает украшения традиционных стихов в пользу формата того, что Fluxus называет “партитурами событий” (event scores). Эти тексты, потрясающе краткие, представляют собой протоколы действий, а не законченные произведения. Сама Ноулз определяет их как “рецепт из одной-двух строк для действия” [2]. Этот, казалось бы, простой подход скрывает значительную концептуальную сложность.
Возьмем Make a Salad, созданное в 1962 году в Институте современного искусства в Лондоне. Партитура сводится к трем словам: “Сделать салат”. Однако этот лаконичный приказ порождает бесконечные перформансы, наполненные сенсорным и социальным богатством. Художница режет овощи в такт живой музыке, усиливает звуки нарезки микрофонами, перемешивает ингредиенты, подбрасывая их в воздух, а затем угощает салатом публику. На протяжении десятилетий произведение трансформировалось: в Tate Modern в 2008 году Ноулз готовит салат для 1900 человек, используя грабли для перемешивания и лопаты для подачи. Произведение растет, меняется, но сохраняет свою суть: бытовой акт, возведенный в ранг коллективного ритуала.
Поэтика Ноулз вписывается в отдельную ветвь европейской конкретной поэзии, отличаясь вниманием к телу и тактильности. Там, где конкретная поэзия работает с материальностью языка на странице, Ноулз помещает её в пространство и время перформанса. Её партитуры, это не произведения для созерцания, а приглашения к переживанию опыта. The Identical Lunch, начатый в 1969 году, является примером такого подхода: художница ест один и тот же обед каждый день, “сэндвич с тунцом на поджаренном пшеничном хлебе с салатом и маслом, без майонеза, и стакан пахты или чашку супа”, и приглашает других разделить этот ритуал. Повторяющееся действие становится медитацией, банальность, замечательной.
Этот подход находит неожиданное продолжение в The House of Dust, стихотворении, сгенерированном компьютером в 1967 году в сотрудничестве с композитором Джеймсом Тенни. Ноулз составила четыре списка слов, описывающих материалы, места, источники света и обитателей дома. Тенни перевёл эти списки на язык FORTRAN, и компьютер IBM создал тысячи четверостиший путём случайных комбинаций. Это пионерское произведение цифровой поэзии раскрывает амбиции Ноулз: исследовать новые медиа, сохраняя при этом глубоко коллаборативное и человеческое измерение.
Партитуры Ноулз работают по экономии средств, напоминающей традицию хокку, но она не сводится к ней. Они разделяют с японской формой крайнее внимание к настоящему моменту, способность извлекать уникальное из повседневного. Shoes of Your Choice, созданное в 1963 году, просто просит участников описать обувь, которую они носят. Эта минималистичная инструкция открывает повествовательное пространство, где разворачиваются личные истории, воспоминания, чувства. Обувь становится метонимией существования, носителем раскрывающейся речи. В 2011 году Ноулз исполнила это произведение в Белом доме перед президентом Бараком Обамой и первой леди Мишель Обамой, доказывая, что формальная простота не исключает институционального признания.
Звуковое измерение занимает центральное место в поэтическом творчестве Ноулз. Фасоль, повторяющийся мотив, который она любит за их “доступность и повсеместность”, становится музыкальным инструментом. Bean Garden, представленная в 1971 году, представляет собой большую усиленную платформу, покрытую сухой фасолью, по которой ходят посетители, создавая тем самым случайную музыку своими движениями. Это внимание к звуку как поэтическому материалу отделяет её от современных ей представителей движения Fluxus, для которых музыка часто была главной целью их иконоборческих акций. Ноулз, напротив, не стремится разрушить музыку, а расширить её пределы, дать услышать латентную музыкальность обычных предметов.
Архитектура как жилая книга
Если поэзия структурирует подход Ноулз к языку и жесту, то архитектура задаёт концептуальную рамку её размышлениям о пространстве и теле. Её “книги-объекты” переворачивают традиционную иерархию между сосудом и содержимым, между носителем и текстом. The Big Book, созданная в 1967 году, имеет высоту 2,4 метра и состоит из восьми подвижных страниц, закреплённых на металлическом позвоночнике. Каждую страницу, оснащённую роликами, можно физически переворачивать, создавая разные пространства и маршруты для читателя. Произведение содержит галерею, библиотеку, травяной туннель, окно, а также подобранные домашние предметы: туалет, плиту, телефон. Книга становится архитектурой, архитектура становится повествованием.
Это монументальное произведение путешествует по Европе, постепенно разрушающееся, прежде чем полностью рассеяться в Сан-Диего. Материальная хрупкость работы является частью её смысла: The Big Book не предназначена для вечного существования, а для того, чтобы её переживали, трогали, изнашивали тела, которые её пересекают. Такая антимонументальная концепция художественной архитектуры прямо противопоставляется модернистской скульптурной традиции и стремлению к постоянству. Клоун предпочитает эфемерное прочному, процесс, результату.
The House of Dust продолжает эту рефлексию, придавая архитектурную форму одноимённому компьютерному стихотворению. В 1970 году Клоун построила стеклопластиковую структуру на кампусе California Institute of the Arts, основанную на катрене: “дом из пыли / на открытом воздухе / освещённый естественным светом / населённый друзьями и врагами”. Этот дом-скульптура принимает занятия, кинопоказы, пикники, обмен подарками. Он функционирует как активное социальное пространство, а не как созерцательное произведение. Первая версия, установленная у дома социального жилья в Челси, была уничтожена поджогом в 1968 году, что напоминает о уязвимости художественных проектов, выходящих за пределы защищённых пространств культурных институтов.
Архитектурный подход Клоун укоренён в неявной критике современной границы между искусством и жизнью. Её обитаемые книги предлагают альтернативу функционалистской архитектуре: они не отвечают никакой определённой программе, не стремятся к измеримой эффективности. Они создают ситуации, а не решения. The Boat Book, недавняя вариация The Big Book, посвящённая её брату-рыбаку, включает сети, ракушки, удочку, чайник, множество личных предметов, наполненных воспоминаниями. Таким образом, архитектура становится хранителем индивидуальных историй, носителем эмоциональных передач.
Серия „свободных страниц” (Loose Pages), начатая в 1983 году в сотрудничестве с бумажницей Коко Гордоном, радикализирует это исследование. Клоун создаёт страницы для каждой части тела: человеческий позвоночник заменяет традиционный переплёт книги. В других скульптурах из страниц посетитель буквально входит в страницу с частью своего тела. Mahogany Arm Rest (1989) и We Have no Bread (No Hai Pan) (1992) приглашают зрителей физически вовлечься в форматы длиной от четырёх до пяти метров. Тело становится инструментом чтения, архитектура становится соматическим текстом.
Тактильное восприятие архитектурного пространства отличает Клоун от её современников. Там, где концептуальная архитектура 1960, 1970-х годов часто отдавала предпочтение визуальному и теоретическому измерению, Клоун настаивает на гаптическом опыте. Она заявляет: “Я не хочу, чтобы люди пассивно смотрели на мою работу, а чтобы они активно участвовали в ней, касаясь, поедая, слушая инструкции, создавая или физически что-то беря” [3]. Это настаивание на активном участии предвосхищает то, что теоретики позже назовут реляционной эстетикой, не попадая в ловушку зрелищности или дидактичности.
Книги-архитектуры Клоун также ставят под вопрос наше отношение к знанию и его передаче. Делая книгу проходимой, она подразумевает, что чтение, это не пассивное восприятие, а активное исследование, физический и умственный маршрут. Эта пространственная метафора чтения ведёт диалог с современными теориями рецепции, одновременно буквально их воплощая. Читатель уже не стоит перед текстом, а оказывается внутри него, окружённым им, проходящим сквозь него.
Этика деления
Работа Элисон Ноулз очерчивает контуры художественной практики, основанной на щедрости и внимании. Вопреки романтическому мифу об одиноком художнике, она постоянно отдаёт предпочтение сотрудничеству: с Джоном Кейджем для книги Notations в 1969 году, с Марселем Дюшаном для шелкографии Coeurs Volants в 1967 году, с бесчисленными исполнителями на протяжении десятилетий. Её близняшки Джессика и Ханна Хиггинс участвовали в её перформансах с детства. Эта коллективная составляющая не растворяет работу, а укрепляет её, создавая сеть отношений и обменов, составляющих её сущность.
Повторяющееся использование фасоли в её творчестве иллюстрирует эту этику. Ноулз выбирает этот продукт не из-за абстрактной символической ценности, а за его конкретные качества: доступность в любом месте, доступность по цене, источник универсального пропитания. Bean Rolls (1963), одна из её первых книг-объектов, представляет собой консервную банку, заполненную сухой фасолью и крошечными свёртками найденных текстов. Потрушив банку, фасоль издаёт звук погремушки. Объект функционирует одновременно как книга, музыкальный инструмент и скульптура. Это слияние медиа иллюстрирует концепцию “intermedia”, теоретизированную Диком Хиггинсом, её мужем, но Ноулз воплощает её с особой изящностью.
Внешняя скромность её средств, салатов, сэндвичей, фасоли или бумаги ручной работы, не должна скрывать радикальность её послания. Выбирая обычные материалы и действия, Ноулз не стремится к эстетике бедности, а утверждает политическую позицию: искусство не принадлежит элите, не требует дорогих материалов, не должно запугивать. Её партитуры могут исполнять кто угодно, где угодно. Эта демократизация художественной практики противостоит коммерциализации, доминирующей в мире современного искусства.
Ноулз жила и работала в своём лофте в СоХо с 1972 года, превращая это пространство в постоянную лабораторию, где жизнь и искусство сливались воедино. Её галерист Джеймс Фуэнтес отмечает, что “её самые мощные работы были её самыми эфемерными” [4], подчёркивая парадокс практики, которая сопротивляется архивированию и сохранению. Как выставить съеденный салат, съеденный сэндвич, исчезнувшие звуки? Этот вопрос преследует учреждения, пытающиеся унаследовать движение Fluxus. Ретроспектива, представленная в 2022 году в Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive, первая масштабная выставка, посвящённая художнице, свидетельствует об этой сложности: как показать произведение, суть которого заключается в самом акте его исполнения?
Алисон Ноулз скончалась 29 октября 2025 года в своей нью-йоркской квартире, оставив после себя творчество, которое продолжает ставить важнейшие вопросы о природе искусства, его функциях, его публике. Её практика, отличающаяся замечательной последовательностью на протяжении шести десятилетий, предлагает альтернативу логикам спектакуляризации и коммерциализации. Она напоминает нам, что искусство может возникнуть из самых простых действий, что общая салатница или тряска фасоли могут открыть пространства для созерцания и общения. В эпоху, насыщенную изображениями и информацией, её приглашение замедлиться, прикоснуться, послушать, поучаствовать звучит с особой остротой. Наследие Ноулз не измеряется проданными произведениями или престижными выставками, а в бесчисленных художниках, которых она вдохновила искать поэзию в обыденном, создавать вместе с повседневностью, превращать каждое действие в возможную партитуру. Её собственная сдержанность является её высшей элегантностью, отказ от спектакля, её самой большой смелостью. Послушайте шелест фасоли: это музыка мира, где искусство и жизнь едины, где совместное, важнее обладания, где присутствие значительнее постоянства.
- Рууд Янссен, “Интервью с Элисон Ноулз”, Fluxus Heidelberg Center, 2006
- Эллен Перлман, “Интервью с Элисон Ноулз, июль-октябрь 2001, Нью-Йорк”, Brooklyn Rail, январь-февраль 2002
- Джори Финкель, “Когда приготовление салата казалось радикальным”, The New York Times, 18 июля 2022
- Алекс Гринбергер, “Её обычные материалы: художница Флуксуса Элисон Ноулз о своей выставке в Carnegie Museum”, ARTnews, 30 июня 2016