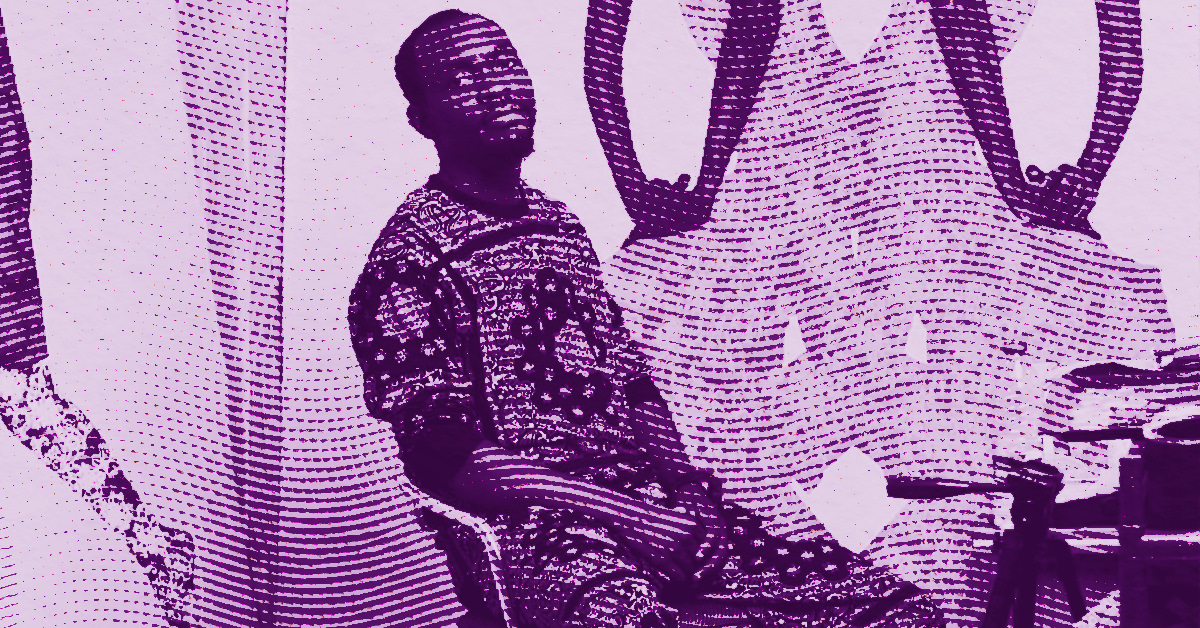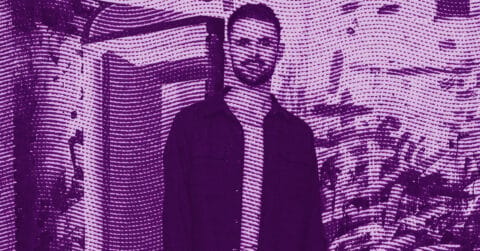Слушайте меня внимательно, кучка снобов: вот художник, который из мастерских Аккры переосмысливает черный портрет с такой дерзостью, что вам должно быть стыдно за ваши слабые убеждения. Эммануэль Таку, родившийся в 1986 году в Гане, на своих монументальных полотнах рисует альтернативную историю изображения, визуальный манифест, который не требует вашего разрешения на существование. Обучавшийся в Ghanatta College of Art and Design в 2005, 2009 годах, этот человек сначала преподавал фигурное рисование, прежде чем понять, что преподавания недостаточно, чтобы вместить то, что он хочет сказать. Нужно было новое языковое средство, пластическая синтаксиса, способная выразить почитание черных тел, не попадая в ловушки привычной памяти или иллюстративного активизма.
Серия, которая вывела Таку на международную арену, называется “Temple of Blackness – It Takes Two”, созданная во время его первой резиденции в Noldor в 2020 году. Само название уже является теоретическим жестом: там, где западные музеи долго воздвигали храмы белизны, Таку строит собственные алтари. Его фигуры, обернутые в ткани с шелкографическими цветочными узорами, стоят в позах, сочетающих модные журналы и классическую статую. Их белые глаза, полностью лишенные зрачков, превращают их в полубогов. Эта формальная деталь, которую художник называет отсылкой к фильму Man of Steel, где Супермен проявляет свою силу через эту глазную метаморфозу, выходит далеко за пределы кинематографической дань и касается чего-то более глубокого в ганской космогонии.
Связь с авторским кино для Таку не случайна. Услышав британско-ганийского режиссера Джона Акомфраха рассказывать о своем опыте чернокожего ребенка в английских музеях, которые он называл “храмами белизны” [1], Таку нашел фундаментальную концепцию своей работы. Акомфрах, родившийся в Аккре в 1957 году и эмигрировавший в Великобританию, соосновал Black Audio Film Collective в 1982 году и в течение всей своей карьеры создал фильмографию, исследующую постколониальную память, диаспорическое перемещение и властные структуры в культурных институциях. Его видеoinсталляции с мультиэкранным показом, такие как Vertigo Sea и Purple, объединяют исторические архивы и современные образы, чтобы создавать визуальные эссе о черном опыте и экологическом кризисе.
Для Таку высказывание Акомфраха о музеях как храмах белизны стало откровением. Оно кристаллизовало то, что он чувствовал смутно: что западные культурные пространства исторически функционировали как места посвящения определенному мировоззрению, эстетике и человеческой сущности. Перед этими храмами Таку возводит свои собственные. Но, в отличие от того, что может показаться поверхностным чтением, это не простое бинарное противопоставление. Персонажи Таку не заменяют одну гегемонию другой; они предлагают другую модальность присутствия в мире. Их позы не триумфальны в военном смысле; они утверждают спокойное суверенитет, величие, которое не нуждается в завоеваниях, чтобы самоутвердиться.
Этот архитектурный аспект проекта Таку заслуживает особого внимания. Говоря о “храме”, художник не ограничивается метафорой: он вызывает целую традицию размышлений о священном пространстве, о пороге между светским и божественным, о функции мест, где происходит преобразование взгляда. Храмы во всех культурах, это переходные пространства, где обычное встречается с необычным. Превратив свои полотна в фрагменты этого метафорического храма, Таку превращает акт взгляда в акт поклонения. Зритель больше не находится в позиции эстетического судьи, оценивающего произведение, а в позиции паломника, входящего в священное пространство. Эта инверсия отношений власти между произведением и его аудиторией, возможно, является самым подрывным аспектом работы Таку.
Кино Акомфры и живопись Таку также объединяет многослойный подход к изображению. У Акомфры множественные экраны и наложение времён создают визуальную плотность, сопротивляющуюся линейному восприятию. У Таку эта многослойность проявляется через совмещение техник: акрил, шелкография, коллажи из газет, текстиль. Цветочные ткани, которыми украшены его фигуры,, это не просто украшения; они несут историю: история сестры портнихи художника, история торговых обменов между Индией, Великобританией и Африкой, история гибридных идентичностей, формирующихся в этих циркуляциях. Особый узор пейсли, который особенно любит Таку, воплощает эту сложность: происходя из Персии и Индии, став популярным в Шотландии, принятым западными контркультурами, он несёт в себе карту культурных заимствований и переосмыслений.
Однако в творчестве Таку есть ещё кое-что, более личное и более американское в его генеалогии: влияние позитивного мышления и Нового Движения Мысли, развивавшихся в 1920-е годы. Художник с готовностью цитирует The Secret of the Ages, книгу, опубликованную в 1926 году Робертом Коллиером [2], как произведение, изменившее его жизнь. Эта книга, проданная тиражом более 300 000 экземпляров при жизни автора, относится к литературной традиции личностного развития, обещающей доступ к неограниченной силе через управление подсознанием. Коллиер, племянник основателя журнала Collier’s Weekly, развивает психологию изобилия, основанную на желании, вере и визуализации.
Эта ссылка может показаться неожиданной. Что за место в творческой логике произведения, который преподносится как проект коллективного восстановления достоинства, занимает книга, часто критикуемая за наивный оптимизм и чересчур индивидуалистический подход? Ответ кроется именно в том, как Таку переосмысливает идеи Коллиера. Там, где The Secret of the Ages обращается к изолированным индивидуумам, стремящимся к личному успеху, Таку переносит эти принципы в сообщество и деколониальный контекст. Визуализация становится созданием контргегемонистских образов; вера в свои возможности превращается в утверждение долгие годы отвергавшейся черной красоты и силы; власть подсознания становится способностью переосмыслить себя вне рамок, навязанных колониальной историей.
Таку сам объясняет это следующими словами: “Если вы можете это представить, значит, вы можете это получить” [3]. Эта фраза, непосредственно вдохновленная риторикой Коллье, приобретает у художника политическое измерение, которого не было у американского автора. Думать о черных телах как о божественных сущностях, визуализировать их в позах силы, облачать в роскошные ткани, значит совершать ту трансформацию, которую обещал Коллье: воплощать мысленно то, что реальность еще отказывается принять. Книга 1926 года и полотна 2020-х разделяют убеждение, что воображение, это не простая фантазия, а творческая сила, способная перестраивать реальность.
Однако есть одна разница: у Коллье трансформация остается индивидуальной и материальной; у Таку она коллективная и символическая. Фигуры художника никогда не бывают одни. Они идут парами, группами, образуя конфигурации, где тела переплетаются и откликаются друг другу. Эта настойчивость на двойственности и множественности берет начало в ганском пословице, которую Таку регулярно цитирует: одна метла легко ломается, но связанные вместе метлы становятся неразрушимыми. Укрепление, синергия, единство, вот что ищут эти композиции, где антропоморфные силуэты сливаются друг с другом, создавая гибриды, в которых уже трудно понять, где начинается одно тело и где заканчивается другое.
Эстетика слияния контрастирует с гипериндивидуализмом Нового Движения Мысли в Америке. Таку заполняет концептуальный инструмент, силу мысли, создание через визуализацию, но перенаправляет их на общинные цели. Его храмы не прославляют одиноких героев, а коллективы, солидарности, союзы. В этом он осуществляет культурный перевод: личный успех становится коллективным освобождением. Эта операция переосмысления свидетельствует о замечательном стратегическом уме. Вместо того, чтобы отвергать концептуальные инструменты, созданные доминирующей американской культурой, Таку подчиняет их своим целям.
Монументальные полотна художника, некоторые из которых достигают ширины до 3 метров, физически навязывают свое присутствие. Их нельзя смотреть рассеянно; они требуют остановиться перед ними, поднять глаза на эти фигуры, превосходящие по размеру человека. Эта монументальность является частью стратегии обращения: там, где черные тела исторически были уменьшены, объектифицированы, раздроблены, Таку их увеличивает, возвеличивает, делает неизбежными. Шелкография, украшающая одежду, добавляет орнаментальное измерение, отказывающееся от аскетической строгости, которой часто ассоциируют “серьезное” искусство. Эти буйные цветочные мотивы, насыщенные цвета, отказ от формального аскетизма, все это составляет радостное, почти дерзкое утверждение права на красоту и роскошь.
Коллекционеры не ошиблись. В 2022 году, с почти миллионом евро продаж на аукционах, Таку стал третьим по успешности ганским художником своего поколения на мировом рынке. Картина, созданная во время резиденции Нолдора, установила его личный рекорд в 250 000 евро в марте 2022 года. Эти цифры, которые можно считать вульгарными для упоминания в критическом анализе, тем не менее говорят о важном: рынок, несмотря на все свои недостатки, признает мощь работы, которая не идет на компромиссы. Таку не смягчил свою позицию, чтобы угодить; наоборот, он радикализировал свои позиции, и именно эта принципиальность привлекает.
Ведь в сущности, то, что предлагает Таку,, это выход из режима сострадательного представления, который долгое время характеризовал то, как западное искусство подходило к чернокожим персонажам. Его фигуры не вызывают ни жалости, ни показной солидарности, ни морального возмущения. Им не нужна ваша эмпатия. Они самодостаточны, суверенны и недоступны в своем сверхъестественном великолепии. Эта недоступность, выраженная белыми слепыми глазами, которые на самом деле не смотрят на вас, является отказом от обычного сцопического пакта. Вы можете созерцать их, но они не созерцают вас в ответ. Они существуют в параллельной сфере, в храме, который они населяют, а вы остаетесь снаружи, допущенным зрителем, но не приглашенным.
Эстетическая позиция сходна, в конце концов, с позицией Акмфраха в его инсталляциях: создание созерцательных пространств, где западный зритель оказывается децентрированным, где его взгляд больше не организует мир. В затемненных залах, где разворачиваются видео Акмфраха, как и перед полотнами Таку, испытываешь инаковость, которая не сводится к чему-то, которую не объясняют, а которая просто утверждается. Это онтологическое достоинство, это полное и цельное присутствие, которое оба художника с разными средствами стремятся сделать видимым. Кинематограф Акмфраха и живопись Таку образуют таким образом ганский диаспорный созвездие, диалог через Атлантику между двумя поколениями художников, которые отказываются занимать места, которые им были отвлечены.
Здесь не идет речь о поддаче гагристической искушению, которое подстерегает любую художественную критику, когда она касается вопросов представления и справедливости. Творчество Таку имеет свои пределы, свои теневые зоны. Можно было бы поставить под вопрос постоянство человеческой фигуры, когда многие современные художники исследуют абстракцию или инсталляцию. Можно также подвергнуть сомнению относительную формальную однородность производства, которое серия за серией воспроизводит одни и те же композиционные установки. Но эти замечания мало значат перед очевидностью необходимости: этих изображений не хватало, а теперь они существуют. Они занимают галереи Брюсселя, Нью-Йорка и Гонконга. Они обмениваются на аукционах. Они входят в музейные коллекции. Они производят то, что Таку визуализировал, следуя в этом предписаниям Коллиера: они превращают возможное в реальное.
Храм, который строит Эммануэль Таку, не является статичным монументом; это постоянная строительная площадка, архитектура всегда в развитии. Каждое новое полотно добавляет камень в здание, расширяет священное пространство, принимает новых фигур в пантеон. И, делая это, оно незаметно трансформирует ландшафт современного искусства, смещает линии, делает сохранение старых иерархий немного более сложным. Именно эта стратегическая терпеливость, это доверие к накопительной силе образов делает Таку не разрушителем икон, а упорным строителем. Он не разрушает храмы белизны; он терпеливо, методично возводит свои, зная, что их простое существование достаточно, чтобы поставить под вопрос гегемонию первых. Возможно, это самый ценный урок, который можно извлечь из этого произведения: что контр-история пишется не в фронтальном противостоянии, а в терпеливом создании визуальных альтернатив, в упорстве делания реальным того, что не имело права на существование. И что это существование, однажды установленное, становится необратимым.
- Джон Акмфрах, ссылка, упомянутая Эммануэлем Таку в его интервью с Гидеоном Аппахом для Noldor Residency, 2020, касающаяся музеев как “temples of whiteness”.
- Роберт Коллиер, The Secret of the Ages, Robert Collier Publications, 1926.
- Эммануэль Таку, интервью с Fashion Week Daily, 2021.