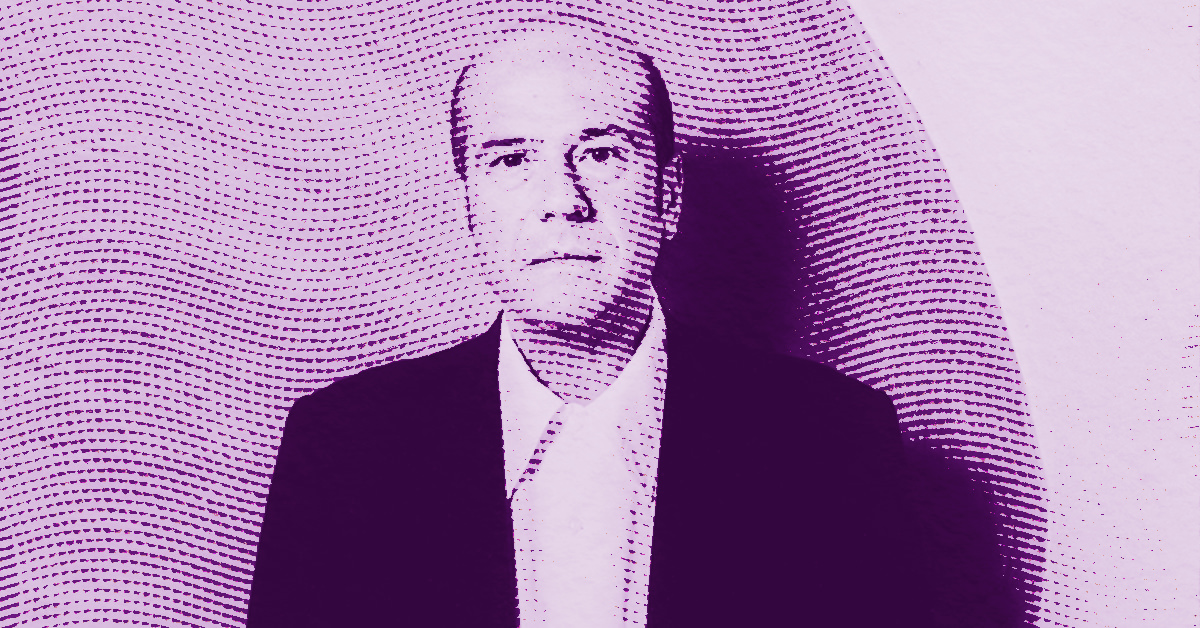Слушайте меня внимательно, кучка снобов. В этом стерильном мире современного искусства всё ещё существуют охраняемые территории, где чистая эмоция противостоит коммерческим расчетам и концептуальным позам. Никола Де Мария является упрямым хранителем этого. Более сорока лет этот человек, родившийся в 1954 году в Фольянизе, разворачивает на стенах по всему миру хроматическую вселенную, где поэзия встречается с архитектурой, где живопись выходит за рамки своего формата, чтобы заполонить пространство и переосмыслить наше отношение к месту.
На этом арт-рынке, где тенденции сменяются с быстротой алгоритма, Де Мария сохраняет тревожную постоянность. Его серия Regno dei Fiori [1], начатая в 1980-х годах, продолжает цвести сегодня с настойчивостью, почти доходящей до сакрального. Эти “королевства цветов”, не простые нарисованные сады, а психологические территории, на которых художник разворачивает личную мифологию из основных цветов, стилизованных звезд и символических домов.
Путь Де Марии начинается с сопротивления. Обученный медицине со специализацией в психиатрии, которую он так и не практиковал, он выбирает живопись в 1977 году в концептуальном Турине семидесятых, когда все провозглашали смерть живописи. Первый акт бунта: создать свою первую настенную живопись в Милане в том же году, затем принять участие в Парижском биеннале. Пророческий жест человека, отвергающего границы между дисциплинами и носителями.
Его признание приходит в 1979 году с включением в движение Трансавацьонгарда, теоретизированное Акилле Бонито Оливой. Вместе с Сандро Кьейей, Франческо Клементе, Энцо Кукки и Миммо Паладино Де Мария воплощает уникальный путь: тогда как его товарищи исследовали ироничную или неоэкспрессионистскую фигурацию, он развивает лирическую абстракцию, черпающую из коллективного бессознательного. Это различие не случайно. Оно раскрывает художника, который с самого начала отвергает ярлыки, чтобы прокладывать собственный путь.
Коллективное бессознательное
Творчество Никола Де Марии демонстрирует интуитивное понимание механизмов коллективного бессознательного, теоретизированных Карлом Густавом Юнгом [2]. Эта психоаналитическая составляющая его работы выходит за рамки простого декоративного использования универсальных символов, достигая подлинной активации архетипов Юнга. Он описывал коллективное бессознательное как “базу, разделяемую человечеством, содержащую архетипы: универсальные модели”, проявляющиеся в мифологических рассказах и художественных творениях. У Де Марии эта теория находит воплощение в живописи с редкой когерентностью.
Его звезды, это не простые орнаментальные мотивы, а проявления архетипа внутреннего космоса, той поисковой ориентации в психологическом пространстве, которую Юнг считал фундаментальной для человека. Дома, украшающие его полотна, напоминают архетип убежища, сакрального temenos, где может осуществиться индивидуация. Что касается повсеместно встречающихся цветов, они воплощают архетип постоянного возрождения, вечного цикла, регулирующего как природу, так и психику.
Это чтение Юнга обогащается, когда наблюдаешь технику настенной живописи художника. Его “Space Paintings”, которые заполняют стены галерей, воспроизводят процесс индивидуации, описанный Юнгом: зритель, погружённый в эти цветные пространства, переживает опыт трансформации, где границы между “я” и пространством временно растворяются. Это растворение не является патологическим, а терапевтическим, позволяя личному бессознательному вступать в диалог с коллективным бессознательным.
Использование Де Марией основных цветов также вписывается в эту архетипическую логику. Красный символизирует жизненную энергию, либидо в юнговском смысле. Синий вызывает духовную бесконечность, трансценденцию. Жёлтый излучает солнечное сознание, ясность пробуждения. Эти цвета, нанесённые густыми слоями согласно технике древней фрески, не стремятся к хроматической изощрённости, а к первозданному воздействию на психику.
Юнг отмечал, что “архетипы иногда проявляются в самых примитивных и наивных формах (в снах), а иногда в гораздо более сложной форме сознательной переработки (в мифах)”. Искусство Де Марии постоянно балансирует между этими двумя полюсами. Его рисунки на бумаге сохраняют спонтанность сна, в то время как его настенные инсталляции достигают сложности выработанного мифа.
Этот психоаналитический аспект объясняет, почему произведения Де Марии оказывают столь особенное влияние на зрителя. Они обращаются не только к глазу, но и к этой “памяти рода”, которую Юнг помещал в коллективное бессознательное. Стоя перед Regno dei Fiori, мы созерцаем не простую декоративную абстракцию, а современный мандалу, активирующую наши глубочайшие психические структуры. Сам Де Мария точно выражает это, описывая себя как “того, кто пишет стихи руками, окунутыми в краски” [3]. Эта формула раскрывает осознание художником обращения к универсальному языку, превосходящему простую живописную технику.
Инсталляция Angeli proteggono il mio lavoro (1986), созданная для его первой американской выставки, прекрасно иллюстрирует такой подход. Рисуя прямо на стенах и потолке экспозиционного пространства, Де Мария превращает архитектуру в цветное материнское лоно, где зритель переживает положительную регрессию к архетипам защиты и возрождения. Это произведение не просто украшает пространство: оно возвращает ему сакральность, активируя нашу коллективную память о защищённом месте.
Архитектура как духовная территория
Вторая фундаментальная составляющая творчества Де Марии заключается в его революционном отношении к архитектуре и пространственности. Этот подход берёт свои корни в итальянской традиции настенного искусства, но переосмысливается в современном ключе, находя отклик в архитектурных исследованиях эпохи итальянского Возрождения. Как Брунеллески в XV веке революционизировал искусство строительства, подчиняя архитектуру “правилу, определяющему пропорциональные соотношения между различными частями здания”, так и Де Мария развивает живописную систему, полностью переосмысливающую отношения между произведением и его пространственной средой.
Инновация Де Марии заключается в том, что он рассматривает архитектуру не просто как носитель, а как партнёра в творчестве. Его настенные росписи не просто занимают поверхность стен: они трансформируют их природу. Рисуя стены и потолки галереи, он не украшает пространство, а символически его переосновывает. Этот подход напоминает революцию Брунеллески, который, по мнению искусствоведов, “особенно культивировал строгость и сдержанность планов”, чтобы “создать очень гармоничный оптический эффект”.
Техника фрески, которую применяет де Мария, устанавливает прямую связь с мастерами итальянского Возрождения, но по обратной логике. Там, где фрескисты эпохи Возрождения стремились создать иллюзию глубины на плоской поверхности, де Мария использует чистый цвет для отмены традиционного восприятия архитектурного пространства. Его окрашенные стены больше не устремляются к точке схода, а излучают цвет в сторону зрителя, создавая эффект пространственного расширения, превращающего архитектуру во внутреннюю космос.
Эта пространственная революция находит своё наиболее полное выражение в его общественных инсталляциях, в частности Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime (2004), созданной для Luci d’Artista в Турине. Превратив фонари на площади Сан-Карло в светящиеся цветы, де Мария совершает архитектурный жест редкой смелости: он переосмысливает городское освещение как поэтическую систему, которая трансформирует восприятие общественного пространства. Это вмешательство не просто украшает площадь: оно раскрывает её скрытое духовное измерение.
Пространственный подход де Марии совпадает с исследованиями современных итальянских архитекторов, которые, по мнению аналитиков, “сочетают традицию и инновации”, развивая “смелое использование современных материалов”. Но там, где современная архитектура использует стекло и сталь, де Мария применяет чистый цвет как архитектурный материал. Его натуральные пигменты, нанесённые традиционной техникой фрески, создают поверхности, которые буквально изменяют световые и акустические свойства пространства.
Эта архитектурная составляющая объясняет, почему де Мария предпочитает часто экспонировать свои работы в исторических местах, а не в нейтральных white cubes. Ему нужен диалог с предсуществующей архитектурой, чтобы раскрыть свою собственную пространственную концепцию. Его вмешательства в дворцах, церквях или реконвертированных промышленных пространствах создают плодотворное напряжение между старым и новым, священным и профанным.
Цвет становится у него настоящим архитектурным языком. Каждый оттенок обладает своей специфической пространственной функцией: красные расширяют пространство и создают ощущение тёплого уюта, синие возносят его к духовной бесконечности, жёлтые освещают внутренним светом. Такое функциональное использование цвета напоминает исследования современной архитектуры о психологическом эффекте материалов, но применяется по чисто живописной логике.
Инсталляция становится у де Марии тотальным искусством, охватывающим живопись, архитектуру и поэзию. Его заголовки, часто длинные и поэтичные, не описывают произведение, а являются его вербальным продолжением. “La testa allegra di un angelo bello” или “Universo senza bombe” функционируют как мантры, направляющие пространственное восприятие зрителя. Эти слова, написанные или нарисованные на стенах, создают литературное измерение пространства, напоминающее священные надписи религиозной архитектуры.
Этот комплексный подход к пространству раскрывает у де Марии понимание искусства как трансформации жизненного мира. Его работы не просто смотрят: они физически и психологически изменяют опыт восприятия места. В этом смысле де Мария осуществляет мечту современной архитектуры создавать пространства, которые преобразуют своих обитателей, но исключительно художественными средствами.
Сопротивление чувственности
В мире искусства, одержимом новизной и нарушением правил, De Maria противопоставляет постоянство поиска, который постоянно углубляет одни и те же основополагающие вопросы. Его “Teste Orfiche”, представленные на Венецианской биеннале 1990 года [4], монументальные полотна шириной более пяти метров, демонстрируют художественную зрелость, которая полностью признает его одержимости. Эти произведения не стремятся ни к провокации, ни к модному эффекту, а неустанно исследуют вопрос чистой эмоции в живописи.
Американская критика иногда упрекала De Maria в отказе от постмодернистской иронии и критической деконструкции. Это непонимание скорее раскрывает уникальность его позиции: в мире искусства, где царит недоверие к эмоциям, он сохраняет непоколебимую веру в преобразующую силу искусства. Его произведения 2000-х и 2010-х годов подтверждают это направление с явными названиями, такими как “Universo senza bombe” или “Salvezza possibile con l’arte”.
Эта позиция вовсе не наивна. Она проистекает из особой ясности в отношении современных проблем искусства. De Maria понимает, что настоящая субверсия сегодня заключается в реабилитации эстетических ценностей, дискредитированных повсеместным цинизмом. Его использование основных цветов и простых форм не является регрессивным примитивизмом, а представляет собой изощренную стратегию культурного сопротивления.
Последние изменения в его творчестве подтверждают это направление. Его работы на бумаге умножают поэтические нотации и музыкальные отсылки, создавая визуальные партитуры, где каждый цвет соответствует ноте, а каждая форма, ритму. Это сознательное синестетическое решение ставит De Maria в ряд великих колористов, которые от Кандинского до Ротко стремились сделать живопись полным искусством.
Его недавние инсталляции также развивают экологическое измерение, которое обогащает его послание, не предавая его. Regno dei fiori musicali. Universo senza bombe (2023) включает звуковые элементы, превращающие выставочное пространство в полноту сенсорной среды. Этот переход к универсальному искусству уважает глубокую логику художника, который всегда отвергал границы между дисциплинами.
Долговечность карьеры De Maria, его выставки в крупнейших международных институтах и регулярное присутствие в публичных коллекциях свидетельствуют о признании, выходящем за рамки модных явлений. Его искусство проходит через поколения, потому что обращается к постоянным антропологическим потребностям: потребности в красоте, духовности и связи с жизненными силами.
Эта устойчивость в нестабильном мире искусства свидетельствует о пророческой релевантности De Maria. Сорок лет назад его выбор живописи в концептуальном Турине казался анахронизмом. Сегодня, когда новые поколения заново открывают потребность в духовности и связи с природой, его oeuvre предстает как пророческая. Его “королевства цветов” предлагают психические убежища в все более обезличенном мире.
Искусство как светская молитва
Творчество Nicola De Maria совершает этот подвиг реабилитации духовного измерения искусства без скатывания в дешёвый мистицизм. Его инсталляции создают светские пространства сосредоточения, где эстетическое созерцание сливается с медитативным опытом. Это духовное измерение не исходит из религиозных догм, а из фундаментального доверия к восстанавливающей силе красоты.
Когда Де Мария рисует “Regno dei Fiori”, он не изображает цветы, а создает условия для психической цветущести у зрителя. Его чистые цвета действуют как визуальные мантры, которые успокаивают умственные волнения и восстанавливают связь с естественными ритмами.
Одержимое повторение одних и тех же мотивов, звезд, домов и цветов, создает гипнотический эффект, способствующий доступу к измененным состояниям сознания. Это повторение, не монотонность, а творческое обдумывание, которое постепенно углубляет понимание. Каждый новый “Regno dei Fiori” раскрывает новые аспекты этой поэтической вселенной, казалось бы, неисчерпаемой.
Включение слов и поэтических фраз в его полотна добавляет литературное измерение, которое обогащает эстетический опыт. Эти тексты не описывают изображение, а создают словесный контрапункт, направляющий медитацию. Когда Де Мария пишет “La montagna mi ha nascosto la luna, cosa devo fare?” (Гора спрятала для меня луну, что мне делать?), он не задает анекдотический вопрос, а формулирует фундаментальное существующее беспокойство человека перед космической бесконечностью.
Духовное измерение объясняет притяжение произведений Де Мария для очень разных аудиторий. Его инсталляции привлекают как любителей современного искусства, так и духовных искателей, детей и пожилых людей. Эта трансверсальность раскрывает правильность его интуиции: истинное искусство обращается к универсальному в каждом человеке.
Искусство Де Мария предлагает конкретную альтернативу современному нигилизму. Перед лицом разочарованного мира оно поддерживает живой возможность опыта сакрального через красоту. Его “миры без бомб”, это не наивные утопии, а лаборатории экспериментирования спокойных вариантов бытия. В его инсталляциях на несколько мгновений насилие мира приостанавливается и заменяется хрупкой, но реальной гармонией.
Это произведение напоминает нам, что искусство всё ещё обладает, несмотря на коммерциализацию, силой духовного преобразования, которая сопротивляется всем попыткам присвоения. Сохраняя живым это сакральное измерение искусства, Никола Де Мария совершает акт культурного сопротивления большого значения. Он доказывает, что в XXI веке всё ещё возможно создавать произведения, возвышающие душу, не отрекаясь от ума.
Вечное настоящее творчества
Очевидно: мы имеем дело с выдающимся художником, чье творчество в будущем получит ещё большее признание. Его способность сохранять живой тысячелетнюю живописную традицию, адаптируя её к современным вызовам, свидетельствует о редком художественном мастерстве. Его отказ от легких концептуальных решений и беспочвенных провокаций говорит об этическом требовании, которое украшает современное искусство.
Произведения Никола Де Мария учат, что истинная авангардность иногда заключается в сохранении того, что угрожает уничтожить современность. Сохраняя живой союз между искусством и духовностью, между живописью и архитектурой, между индивидуальным и коллективным, он выполняет важную работу по культурному сохранению. Его “королевства цветов”, убежища, где сохраняются эстетические и духовные ценности, слишком быстро оставленные нашей эпохой.
Это произведение также приглашает переосмыслить наши критерии оценки современного искусства. Формальное новшество, критическое нарушение, ироничная деконструкция, не единственные критерии художественного качества. Терпеливое углубление исследования, верность поэтическому видению, способность волновать и возвышать имеют равную, а возможно, и большую легитимность.
Никола Де Мария доказывает нам, что даже в разочаровывающем контексте постмодерна возможно создавать искусство, которое примиряет человека с его высочайшими устремлениями. Его инсталляции дарят нам моменты благодати, компенсирующие жестокость повседневности и питающие эту “голод красоты”, которую тайно ощущает большинство наших современников.
Перед его произведениями мы понимаем, что истинное искусство не ограничивается изображением мира: оно трансформирует его, раскрывая скрытые возможности. “Миры без бомб” Де Марии не являются бегством от реальности, а предвосхищают возможный мир, где красота превалировала бы над насилием. В этом смысле это искусство выполняет свою высшую пророческую функцию: оно поддерживает надежду на лучшее будущее и даёт нам духовные средства для его построения.
Произведение Никола Де Марии напоминает нам, что искусство остаётся, несмотря на все исторические превратности, привилегированным путем доступа к сакральному. В мире, утратившем свои традиционные духовные ориентиры, его инсталляции предлагают пространства для сосредоточения, где каждый может восстановить связь с той трансцендентной сущностью, которая является свойственной человечеству. Эта антропологическая функция искусства, которую авангард XX века считал окончательно упразднённой, в творчестве Де Марии приобретает тревожную актуальность, заставляя нас задуматься о наших собственных духовных потребностях.
Таким образом, далеко за пределами эстетических споров своего времени, Никола Де Мария совершил подвиг, примирив современное искусство со своей вечной миссией: раскрывать скрытую красоту мира и предоставлять людям причины надеяться. Его творчество, проходящее через уже пять десятилетий, будет долго сопровождать нас в нашем общем поиске искусства, которое одновременно современно и вневременно, изысканно и доступно, локально и универсально.
- Galerie Lelong & Co., “Nicola De Maria – Regno dei Fiori”, каталог выставки, Париж, 1988
- Карл Густав Юнг, Человек и его символы, Robert Laffont, Париж, 1964
- ABC-Arte, интервью с Никола Де Мария, Турин, 2018
- Лаура Черубини, Фламино Гуальдони, Леа Верджине (ред.), Biennale di Venezia – Padiglione Italia, официальный каталог, Венеция, 1990